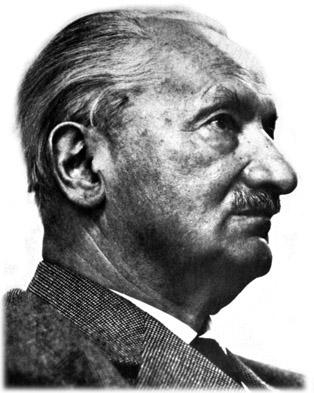
МАРТИН ХАЙДЕГГЕР
ПАРМЕНИД
Перевод с немецкого А.П. Шурбелева
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Подготовительное размышление об имени и слове αληθεια и его противосуществе. Два указания, получаемые при переводе этого слова
§ 1. Богиня «Истина». Парменид, I, 22—32
a) Обычная осведомленность и существенное знание. Отказ от привычного смысла «дидактической поэмы», совершаемый через внимание призыву начала
Повторение
1) Исток и начало. Обычное мышление и мышление, начатое началом. Отступление перед бытием. Текстовая малость простого (das Einfache). О «переводе»
b) Два указания в переводе слова ἀλήθεια. Спорное несокрытости. Предварительное разъяснение существа ἀλήθεια и сокрытости. Пере-вод и пере-вод
Повторение
2) Вопрос об имени богини и его переводе. Существо истины первых двух указаний, противоположное сокрытости. Не-сокрытость и не-сокрытость
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Третье указание, даваемое «несокрытостью» как переводом слова ἀλήθεια: бытийно-историческая сфера противоположности ἀλήθεια и λήθη
§ 2. Первое размышление об изменении сущности истины и о ее противосущности
а) Спорное в не-сокрытости. Третье указание: внутреннее борение, совершающееся в истине. Отголосок ἀλήθεια в «субъективности». Гегель и Шеллинг. О противоположности сокрытости и несокрытости, ложности и истины
b) Вопрос о сущности, противоположной сущности ἀληθές. Отсутствие слова ληθές и наличие слова ψεΰδος. Прикровенность основных значений. Антоним λαθόν и по-гречески осмысленное λανθάνομαι. Забвение, постигнутое в ракурсе сокрытия. Гомер, «Илиада», XVIII, 46; X, 22. «Одиссея», VIII, 93
Повторение
Τò ψεΰδος как противоположность άληθές. Корневое родство между ἀλήθεια и λανθάνω. Ссылка на «Одиссею» Гомера (VIII, 93). Ускользание забвения
§ 3. Об изменении ἀλήθεια и изменении противоположной ей сущности (veritas, certitudo, rectitudo, iustitia, истина, справедливость — λήθη, ψεΰδος, falsum, неправильность, ложность)
а) Различные значения слов ψεΰδος и «ложный». Скрывающе-раскрывающая сущностная сфера антонима ψεΰδος. «Илиада» (В 348 и след). За-ставляющее скрывание: основное значение слова ψεΰδος. Τò άψευδές (раз-утаивающее) и άληθές. «Теогония» Гесиода. Двусмысленность термина άληθές
Повторение
1) Так называемый «правильный» перевод слова ψεΰδος словом «ложный». Смысловая многозначность «ложного» и ψεΰδος. За-ставление и утаивание, свойственные ψεΰδος в сущностной сфере раскрытия и снятия покрова. Гомер и Гесиод
b) Ненемецкое слово «ложный» (falsch). Falsum, fallo, σφάλλω. Преобладание римского «приведения-к-падению» (Zu-Fall-bringen) в романизации эллинства, осуществляемой через imperium (повеление) как сущностную основу iustumʼa. Пере-вод ψεΰδος в римско-имперскую сферу приведения-к-падению. Собственно бытийное событие в истории: наступление романизации в греко-римской области истории и новоевропейское восприятие эллинства «римскими» глазами
Повторение
2) Повторное размышление о сущности «ложного», а также утаивания и раз-утаивания, характерных для ψεΰδος. Господство по-римски имперского «высшего повеления» и масштаб различия между ψεΰδος и falsum
c) Имперское в форме куриального, свойственного курии. Взаимосвязь слов «verum» и «истинное». Ненемецкое значение «истинного» через римско-христианское «verum». Verum: незыблемо правильное как антоним слову falsum. Verum и a-pertum; λαθόν и его противоположность слову άληθές
d) Изменение сущности ἀλήθεια, начавшееся с Платона. Усвоение «репрезентативной» функции ἀλήθεια через όμοίωσις (как правильности (rectitudo), характерной для ratio), совершившееся в veritas. Rectitudo (iustitia) церковной догматики и iustificatio евангелической теологии. Certum и «usus rectus» (Декарт). Кант. Замыкание круга сущностной истории истины в превращении veritas в «справедливость» (Ницше). Заключение греческой ἀλήθεια в романский бастион под названием veritas, rectitudo и iustitia
Повторение
3) История наделения бытием: повторное осмысление истории сущностного изменения истины. «Балансы» историографии (Буркхардт, Ницше, Шпенглер). «Толкование» истории в Новое время
4) Событие перехода сущности не-истины из греческого ψεΰδος в римское falsum. Завершение изменения veritas в certitudo, совершившееся в XIX в. Самообеспечение самодостоверности (Ницше, Фихте, Гегель)
§ 4. Многообразие противоположностей сущностной структуре несокрытости
a) Сущностное богатство сокрытости. Способы сокрытия: άπάτη, (μέθοδος), κεύθω, κρύπτω, καλύπτω. Гомер: «Илиада», XX, 118; «Одиссея», VI, 303; III, 16; «Илиада», XXIII, 244. Раскрытие мифа и вопрос о природе греческих богов
b) Взаимосвязь греческого μΰθος и греческого божества. Земля, день, ночь и смерть в их отношении к несокрытости. Потаенное (das Geheime) как один из способов сокрытия. Другая противосущность истине, не имеющая в себе негативности, свойственной ложности и за-ставлению
Повторение
Дополнительные пояснения: «путь» прибывающего мыслителя в «дидактической поэме» Парменида. Взаимосвязь между сущностью богини и путями, ведущими к ее дому и из него. Окольный и ложный путь. Вопрос об иной противосущности раскрытию. Сущность раскрытия и сокрытия, приходящая в слово и сказание. Утрата слова как сохранения отнесенности бытия к человеку. Римское переистолкование фразы τò ζῷον λόγον ἒχον в «animal» rationale. Кант, Ницше, Шпенглер. Μΰθος, ἒπος, λόγος
§ 5. Противоположность άληθές: λαθόν, λαθές.
Событие изменения ускользающего и отъемлющего сокрытия и человеческое забывание
a) Царствование сокрытия в λανθάνεσθαι. Сокрытие забывающего в забытом: забытие. Гесиод, «Теогония», V. 226 и след. Λήθη и сокрытая сущность Эриды (Ссоры), дочери Ночи. Пиндар
b) Благоговейная приязнь в VII Олимпийской оде Пиндара (VII, 48-49; 43 и след.) и у Софокла («Эдип в Колоне», 1267). Άρετή (разрешительность) как раскрытость человека, определенная из ἀλήθεια и αίδώς
Повторение
1) Три наименования сущностной истории Запада. Ссылка на «Бытие и время». Существенное мышление. Гельдерлин, Пиндар. Начало сущностной отнесенности бытия к человеку в слове и сказании. По-гречески понимаемая сущность человека. Гесиод
с) Πράγμα: рукодействие (Handlung). Слово как сущностная сфера действия человеческой руки. Рукопись и машинопись. Ὀρθός и rectum. Сущностное рукодействие и путь к несокрытому. Забытие как сокрытие. Уход человека «прочь» от несокрытости и слово никак не обозначенного облака. Помрачение. Ускользание λήθη. Еще раз о Пиндаре. Гесиод
Повторение
2) Взаимосвязь бытия, слова, чтения, руки и письма. Вторжение пишущей машинки в сферу слова и рукописи. Техника как следствие изменившегося отношения бытия к человеку. Большевизм как мир, изначально полностью технически организованный. Мышление и поэзия греков в ἀλήθεια и λήθη
§ 6. Последнее сказание эллинства о сокрытой противосущности ἀλήθεια, то есть о λήθη (I): заключительный миф Платоновой «Политейи». Миф о сущности «полис». Разъяснение сущности демонического. Сущность греческого божества в свете ἀλήθεια. «Взор» не-привычного
а) Πόλις как полюс определяемого из ἀλήθεια присутствия сущего. Софокл. Отражение самопротивоборствующей сущности ἀλήθεια в противосущности πόλις, а именно в ἄπολις. Буркхардт
b) Подготовка к вынужденному проходу через замечания к Платонову диалогу о λήθη и πόλις. Лад: Δίκη. Смертоносный ход пребывания в полисе и присутствование сущего после смерти. Христианский платонизм. Гегель
Повторение
1) Политейя: τόπος сущности πόλις. Сущностно неполитическое, характерное для политейи полиса. Полюс совершающегося в πέλειν. Невозможность толкования «полиса» в ракурсе «государства», δίκη и iustitia. Смерть: переход от «здесь» к «там». Платонизм
c) Вопрос о «здесь» и «там». Политейя, X, 614 b 2 и непроясненность указания на миф
d) Ψυχή: основа отнесенности к сущему. Знание мыслителей о Daimonia. Аристотель и Гегель. Δαιμόνιον: бытийное врастание не-привычного в привычное. Δαιμόνες: отсылающие в привычное и указующие на него
e) Видение (θεάω), предоставляющее вид бытия. Вид бытия (είδος). Греческий бог (δαίμων), в видении предоставляющий себя несокрытости. Не-привычное как взирающее в привычное. Появление непривычного в видении человека
Повторение
2) «Недемоническая» природа «демонов» (δαίμονες). Раскрывающее восхождение бытия: самопрояснение. Видение (внятие) изначального способа восхождения в просвет. Промежуточное положение животного (Ницше, Шпенглер). Человек как у-виденный. Θέα и θεά — одно и то же слово. Сорок восьмой фрагмент Гераклита. Недостаточные объяснения сущности греческого божества. Зримый «вид» как решающее в появлении не-привычного в привычном. Не-привычное, предъявляющее себя в привычном, и покоящееся в бытии отношение к божеству
f) Различие между греческими богами и христианским Богом. Именование бытия в его взирании-в (Herein-blicken) через слово и миф как способ отношения к появляющемуся бытию. Человек как бого-сказитель (Gott-sager). «Закат» культур (Ницше, Шпенглер). Основная черта забвения бытия: а-теизм
g) Божественное, дающее себя в несокрытое. Daimonion: «видящийся» взор в безмолвствующем вбирании в принадлежность к бытию. Сфера раскрытия слова. «Соответствие» божественного и сказываемого (τò θείον и ό μΰθος). Воплощение-в-произведении (искусство) несокрытости и посредничество слова и мифа. Εύδαιμονία и δαιμόνιος τόπος
§ 7. Последнее сказание эллинства о сокрытой противосущности ἀλήθεια, то есть о λήθη (II). Заключительный миф Платоновой «Политейи». Равнина λήθη
а) Местность не-привычного: поле сокрытия, влекущего в забвение. Исключительность пребывания не-привычного в Лете. Взор ее пустоты и ничто лишения. Вода из реки под названием «Избавляющая от забот», не могущая удерживаться ни в каком сосуде. Спасение несокрытого в подлинно мыслящем мышлении и мера пития мыслителя
Повторение
1) Равнина и Лета. Божественное у греков: не-привычное в привычном. Θείον в изначальных ἀλήθεια и λήθη. Ἀλήθεια и θεά (Парменид)
b) Мера влекущего в забвение сокрытия несокрытости. Ἰδέα Платона и утверждение анамнесиса (как и забывания) в несокрытости. Λήθη: πεδίον. Начало обеих поэм Гомера и речение Парменида. Незабвенность, которую обретает ἀλήθεια через влечение в забвение, характерное для λήθη. Господство технической процедуры над опытом, начавшееся с Платона (τέχνη). Отрывок из «Илиады» (XXIII, 358-361)
Повторение
2) Происхождение человека из не-привычной местности влекущего в забвение сокрытия. Начало изменения основной позиции человека. Единовластие ἀλήθεια и μέμνημαι. Отрывок из «Илиады» Гомера (XXIII, 358-361)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Четвертый аспект в переводе αληθεια как «несокрытости». Открытое и свободное просвета бытия. Богиня «Истина»
§ 8. Более полное значение рас-крытия. Переход к субъективности. Четвертое указание: открытое (das Offene), свободное (das Freie). Событие ἀλήθεια в западном мире. Беспочвенность открытого. Отчуждение человека
a) Подготовка к четвертому указанию. О прежнем недостаточном переводе ἀλήθεια словом «несокрытость». Двойственность слова «рас-крытие» и его более полное значение. Внутреннее противоборство в изначальной ἀλήθεια. Близость и начало. Гомер. Двойственность явления: чистое восхождение (das Aufgehen) и встреча. «Яйность». Кант, Декарт, Гердер, Ницше. Первенствующее значение самости со времен Платона и Аристотеля (Περί Ψυχής 8, 431; Μετ. α 1)
b) Четвертое указание: открытое (das Offene) как сущностное начало несокрытости. Ссылка на «Бытие и время» и Софокла («Аякс», V, 646-647). Время как являющее и скрывающее. Гельдерлин. Время как «фактор» в Новое время. Бытийствование открытости в несокрытости. «Отождествление» открытости и свободы. Ἀλήθεια как открытое просвета
c) Свет и видение. «Естественное» разъяснение света: греки как «люди глаза» и раскрывающийся вид. Видящее внятие. Ἀλήθεια: событие в вечерней области, скрывающей утро. Θεάν-όράν и теория
d) Открытое в начале размышления над словом ἀλήθεια. Существенное мышление: прыжок в бытие. Несокрытое сущее в сокрытости без-основного (das Boden-lose), свойственного открытому (свободному) бытия. Сокрытие решения о наделении несокрытостью в скрывающем открытом по отношению к человеку. Полномочие усматривать открытое, получаемое через наделение человека бытием: историческое начало. Отчуждение человека от открытого
е) Открытое в форме беспрепятственного продвижения сущего. Открытое: свободное (das Freie) просвета. «Открытое» «твари» в Восьмой Дуинской элегии Рильке. Шопенгауэр и Ницше. Исключение животного из борьбы несокрытости с сокрытостью. Воз-бужденное живого (das Lebendige)
§ 9. Θεά — Ἀλήθεια. Взирание бытия в им же проясненное открытое (das Offene). Направление отсылки на сказанное Парменидом: путь мыслителя к дому богини Ἀλήθεια и путь его мысли к началу. Сказывание начала западноевропейского сказания
Приложение
Послесловие немецкого издателя
Послесловие переводчика
ВВЕДЕНИЕ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ ОБ ИМЕНИ И СЛОВЕ ΑΛΗΘΕΙΑ И ЕГО ПРОТИВОСУЩЕСТВЕ.
ДВА УКАЗАНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЭТОГО СЛОВА
§ 1. Богиня «Истина». Парменид, I, 22-32
а) Обычная осведомленность и существенное знание.
Отказ от привычного смысла «дидактической поэмы»,
совершаемый через внимание призыву начала
Παρμενίδης καί Ἡράκλειτος, Парменид и Гераклит — современники, жившие в период между 540 и 460 гг. Таковы имена двух мыслителей, которые в неповторимой взаимопринадлежности мыслят истинное (das Wahre), стоя у истоков западноевропейского мышления. Мыслить истинное значит постигать его в его существе и, имея опыт такого сущностного постижения, знать истину истинного.
Западноевропейское мышление насчитывает две с половиной тысячи лет. То, что помыслено в мышлении обоих мыслителей, ни разу не затрагивается годами и веками. Однако эта незатронутость всепожирающим временем сохраняет силу вовсе не потому, что помысленное обоими мыслителями — с тех пор как они его помыслили — сохраняется в самом себе в качестве так называемого «вечного» в некоем вневременном месте. Напротив, помысленное в этом мышлении как раз и есть собственно историческое (das Geschichtliche), что предшествует всей последующей истории, то есть шествует впереди нее. Такое предваряющее и определяющее всю историю мы называем изначальным (das Anfängliche). Поскольку оно не остается в прошлом, а предлежит будущему, изначальное снова и снова дарует себя той или иной эпохе.
Начало есть то, что в сущностной истории приходит последним. Правда, для мышления, которое знает только форму счета, тезис «начало есть последнее» остается бессмыслицей. Конечно, сперва, в исходном виде начало является в своеобразном прикровении. Отсюда та странность, что изначальное легко считается чем-то несовершенным, незаконченным, грубым. Его также называют «примитивным», и потому возникает мнение, что мыслители, существовавшие до Платона и Аристотеля, — это «примитивные мыслители». Правда, не каждый мыслитель, стоящий у истоков западноевропейского мышления, непременно является изначальным. Первым таким мыслителем был Анаксимандр.
Двумя другими, вместе с Анаксимандром составившими тройку единственных, являются Парменид и Гераклит. В сравнении с прочими западными мыслителями мы называем этих троих первоначальными, что кажется произвольным. По существу, мы не располагаем никакими аргументами, достаточными для того, чтобы напрямую обосновать данную характеристику. Для такого обоснования прежде необходимо установить подлинную связь с ними, что мы и попытаемся сделать в этом лекционном курсе.
В ходе западноевропейской истории все последующее мышление не только во времени отдаляется от своего истока — прежде всего оно отдаляется от своего начала в том, чтó именно мыслится. Последующие поколения все больше и больше отчуждаются от раннего мышления. В конце концов, отстояние становится таким большим, что возникает сомнение, способна ли вообще позднейшая эпоха снова помыслить самые ранние мысли. К этому сомнению прибавляется и другое, а именно мысль о том, что если бы такое начинание и удалось, оно все равно бы, наверное, не принесло никакой пользы. К чему бродить в поисках почти затерявшихся следов давно миновавшего мышления? Сомнения в возможности осуществления такой попытки и в пользе данного начинания особенно подкрепляются тем, что оно дошло до нас только в отрывках. Отсюда становится ясно, почему взгляды ученых на раннюю греческую «философию» так разнятся между собой, а за правильность понимания этих философских мыслей вообще нельзя ручаться.
Таким образом, решение сегодня разобраться в мышлении Парменида и Гераклита сопряжено с разнообразными сомнениями и опасениями. Мы оставляем их в силе и не торопимся как-то по-особому их отринуть. Даже если бы мы и решились развеять эти опасения, нам пришлось бы прежде всего сделать самое необходимое, а именно начать мыслить то, что мыслили оба названные мыслителя. Мы не можем избежать единственного: нам прежде всего необходимо прислушаться к тому, что они говорили. Быть может, проявив достаточную внимательность и выдержку мысли, мы убедимся, что упомянутые сомнения беспочвенны.
Сказанное Парменидом дошло до нас в виде стихов и стихотворных отрывков. Оно предстает перед нами как «поэма», но поскольку в нем содержится «философское учение», принято говорить о «дидактической поэме» Парменида. Такая характеристика его мыслящего сказывания является следствием того затруднительного положения, в котором мы оказываемся. Мы знаем стихотворения и поэмы. Знаем философские трактаты. Сразу видно, что в стихах Парменида вряд ли можно отыскать что-либо собственно «поэтическое», но в них, напротив, очень много того, что называют «абстрактным». Потому кажется, что, имея дело с таким мыслящим высказыванием, лучше всего учесть оба момента, т. е. стихотворную форму и «абстрактное содержание», и назвать имеющееся «дидактической поэмой».
Но, быть может, речь не идет о «поэме» в смысле «поэзии», равно как нельзя говорить и об «учении». К какому жанру можно отнести сказанное Парменидом и как назвать помысленное в этом сказанном, наверное, станет ясно только в том случае, если сначала мы уясним, что же здесь мыслится и что должно найти выражение в слове. Здесь слово произносится неповторимым образом, и неповторимо совершается речение. Поэтому в дальнейшем изначальное слово Анаксимандра, Парменида и Гераклита мы будем называть речением этих мыслителей. Под «речением» подразумевается целое (das Ganze) их сказывания, а не только отдельные тезисы и выражения. Тем не менее, отдавая дань традиции, мы пока говорим и о «дидактической поэме» Парменида.
(Поскольку специальное издание текста уже давно разошлось, я попросил скопировать и размножить его. Копия сделана таким образом, чтобы слушатели этого курса могли по ходу следования часов вписывать на противоположную страницу соответствующую часть перевода).
Для того чтобы узнать, что помыслено и сказано в словах Парменида, мы выбираем самый надежный путь. Мы следуем тексту. Прилагаемый перевод уже содержит какое-то его истолкование. Оно, конечно же, требует пояснения, однако ни перевод, ни его пояснение не будут иметь веса до тех пор, пока помысленное Парменидом само не обратится к нам. Прежде всего надо прислушаться к обращению, исходящему из мыслящего слова. Только так, т. е. внимая обращенному к нам, мы постигаем речение. Чему именно внимает человек, как именно он внимает тому, чему внимает, насколько он исконен и постоянен в своем внимании — всем этим и определяется мера того достоинства, которым наделяет человека история.
Мышление есть внимание сущностному. В этом внимании заключается глубинное по своей сути, существенное знание. То, что обычно называют «знанием», есть не что иное, как осведомленность в каком-либо деле и его обстоятельствах. Благодаря таким сведениям мы «овладеваем» вещами. Овладевающее «знание» относится к тому или иному сущему, к его устроению и использованию. Такое «знание» захватывает сущее, «господствует» над ним и в силу этого как бы превосходит и постоянно опережает его. Совсем другое — существенное знание. Оно обращено к тому, что есть сущее в своей основе, то есть к бытию. Такое «знание» не овладевает своим знаемым, но само затрагивается им. Всякая «наука», например, и все прочее, похожее на нее, есть основанное на информации овладение сущим, горделивое возвышение над ним, опережение его, а порой — и напористое подавление. Все это совершается по способу опредмечивания (Vergegenständ-lichung). Что касается существенного знания, чуткого внимания бытию, то оно, напротив, есть отступление перед ним. Совершая такое отступление, мы видим и улавливаем существенно больше, а точнее говоря — совершенно иное в сравнении с тем, что открывается нам в примечательном наступлении новоевропейской науки, которое всегда есть не что иное, как технически оснащенная атака на сущее и вторжение в него, осуществляемое ради достижения действенного, «созидающего», деятельного и делового «ориентирования». Мыслящее вслушивающееся бдение, напротив, представляет собой внимание призыву, который исходит не от каких-то единичных фактов и процессов действительного и затрагивает человека не в его лежащих на поверхности повседневных начинаниях. Только тогда, когда в слове Парменида к нам обращается бытие, а не нечто предметное из всего многообразия сущего, знание его «тезисов» оправдано. Без такого прислушивания к этому обращению все наше старательное разъяснение природы такого мышления ничего не даст. Последовательность, в которой мы разъясняем те или иные отрывки, определяется истолкованием ведущей мысли, которое мы кладем в основу частных разъяснений, но которое, правда, само очерчивается лишь постепенно.
Отдельные фрагменты Парменидова текста пронумерованы римскими цифрами. Пусть это покажется произвольным, но мы начнем с рассмотрения I фрагмента, а именно со стихов 22—32.
22 И богиня приняла меня благосклонно, взяла десницей
Десницу и, обратившись ко мне, сказала так:
«О Курос (Юноша), спутник бессмертных возниц,
25 На конях, которые тебя несут, прибывший в наш дом,
Привет тебе! Ибо отнюдь не злая Участь (Мойра) вела тебя пойти
По этому пути — воистину он запределен тропе человеков —
Но Закон (Фемида) и Правда (Дикэ). Ты должен узнать все:
Как непогрешимое сердце легко убеждающей Истины,
30 Так и мнения смертных, в которых нет непреложной достоверности.
Но все-таки ты узнаешь и их тоже: как о кажущихся вещах
32 Надо говорить правдоподобно, обсуждая их все в совокупности.
Итак, мыслитель Парменид рассказывает о богине, которая приветствует его, когда он прибывает к ее дому. Вслед за приветствием, самобытный характер которого разъясняет сама богиня, начинается возвещение о тех открытиях, которые с ее помощью ему предстоит сделать на своем пути. Таким образом, все, что мыслитель говорит в следующих отрывках своей «дидактической поэмы», принадлежит этой богине. Если мы сразу обратим внимание на эту особенность и хорошенько ее запомним, нам впредь надо будет постепенно осознавать, что когда мыслитель говорит, он облекает в слова то, что хочет сказать она.
Но кто она? Ответ, который мы предвосхищаем, дает только вся «поэма» в целом. Эта богиня есть богиня «Истина». Она сама — «Истина» — и есть богиня. Исходя из этого, мы не говорим о богине «какой-то» истины. Мы не делаем этого, потому что в противном случае возникает впечатление, будто речь идет о какой-то богине, защите и благословению, которой «истина» лишь вверена. Если бы дело обстояло именно так, тогда мы, с одной стороны, имели бы «богиню», а с другой — «истину», находящуюся под ее божественным покровительством, и потому данную ситуацию можно было бы разъяснить в контексте уже известных соответствий. Мы знаем, например, что греки почитают Артемиду как богиню зверей и охоты. Охота и звери — это не сама богиня Артемида, а только то, что ей посвящено и находится под ее покровительством. Но когда Парменид называет богиню «истиной», тогда сама истина постигается как богиня. Это удивляет нас, ибо редко случается, чтобы какой-нибудь мыслитель влагал свои мысли в уста божественного существа. Отличительная черта мыслителей, которых позднее, со времен Платона, станут звать «философами», заключается в том, что свои мысли они черпали из самих себя. Ведь мыслители потому и называются «мыслителями», что они, как принято полагать, мыслят «из себя» и в этом мышлении ставят самих себя на карту. Мыслитель сам ставит вопросы и сам на них отвечает. Мыслители не возвещают какие-либо «откровения» бога. Они не сообщают о наущениях богини. Они говорят о своих собственных прозрениях. Что же в таком случае делает богиня в этой «дидактической поэме», с неповторимой ясностью и строгостью выражающей мысли мыслителя? Ведь даже если сказанное Парменидом по какой-то еще неведомой нам причине вполне обоснованно связано с богиней «Истиной», мы все-таки не видим здесь ее божественного образа, как это обычно бывает в греческой мифологии. Афина, Афродита, Артемида, Деметра появляются как вполне определенные «божественные персонажи». Что касается богини «Истины», то она, напротив, достаточно «абстрактна». Можно было бы даже предположить, что здесь речь идет не о каком-то «мифическом опыте» этой богини, а о том, что мыслитель по собственному почину «персонифицирует» общее понятие «истины», превращая его в некий божественный образ. «Гипостазирование» общих понятий и превращение их в образы богов встречается довольно часто, особенно в поздней античности.
Быть может, мыслитель Парменид, осуществляя нечто подобное, хочет сделать более красочными свои мысли, которые обычно слишком «отвлеченны»? Если к тому же мы вспомним, что, как принято считать, в момент зарождения западноевропейского мышления у греков происходит освобождение «логоса» (разума) от «мифа», тогда картина станет совсем ясной: просто в первых «примитивных» попытках утвердиться в таком мышлении мы еще имеем дело с остатками «мифических» представлений. Если это действительно так, тогда легко объяснить появление богини в «философской поэме» и прийти к выводу, что упоминание о ней, да и ее саму, теперь можно просто позабыть, поскольку это не что иное, как поэтическое и псевдо-мифическое приукрашивание — на самом же деле нам надо просто познакомиться с «философской системой» этого мыслителя.
Однако такая точка зрения, кратко здесь упомянутая и часто встречающаяся в различных статьях, — не что иное, как заблуждение. Если бы она выдавала только горделивое самомнение успевших народиться поколений, которые, как известно, всегда лучше знают, как было на самом деле, то тогда причина ее появления была бы понятной (обычный метод историографического сравнения, занятый бухгалтерским подсчетом того, что было раньше и что есть теперь), и мы могли бы просто оставить в стороне подобные разъяснения. Однако все дело в том, что в них просматривается образ мыслей, за два тысячелетия успевший упрочиться на Западе и в каком-то отношении даже являющийся следствием, правда, сбивающим с толку, того мышления, которое находит свое выражение в «поэме» Парменида. Мы сами движемся в этом давно укоренившемся способе мышления и потому считаем его «естественным».
Но если предположить, что Парменид и Гераклит мыслили совершенно по-другому, тогда придется отказаться от устоявшегося мнения, причем этот отказ не будет иметь ничего общего с простым опровержением ошибочных ученых толкований этой мысли. Отказ от устоявшегося затрагивает нас самих — все решительнее и необычнее. Только на первый взгляд он воспринимается как некая «негативная» установка. На самом же деле в нем совершается первый шаг на пути нашего прислушивания к призыву начала, которое, несмотря на его историографически представленную временную удаленность, на самом деле даже ближе, чем то, что мы привыкли воспринимать как самое близкое.
ПОВТОРЕНИЕ
1) Исток и начало. Обычное мышление
и мышление, начатое началом.
Отступление перед бытием.
Текстовая малость простого (das Einfache).
О «переводе»
Итак, мы стремимся отыскать путь к мышлению обоих мыслителей, Парменида и Гераклита. С историографической точки зрения оба они принадлежат к раннему периоду западноевропейского мышления. В отношении западного мышления, начавшегося с греков, мы проводим различие между истоком и началом. Под истоком (Beginn) мы понимаем отнесенность этого мышления к определенному «времени». В данном случае «мышление» означает не процесс протекания психологически представляемых мыслительных актов, а историю, в которой существует определенный мыслитель, излагающий свои мысли и, таким образом, утверждающий для истины определенное место в историческом существовании человечества. «Время» здесь означает не столько какой-то момент времени, вычисленный по дням и годам, сколько «эпоху», то есть определенную ситуацию и место человека в истории. Говоря об «истоке», мы имеем в виду возникновение и появление мышления, говоря же о «начале», имеем в виду нечто иное. «Начало» есть должное-быть-помысленным (Zu-denkende) и помысленное (das Gedachte) в этом раннем мышлении, причем мы еще не знаем, в чем суть этого помысленного. Если предположить, что мышление мыслителя полностью отличается от познания «наук» и всякого вида практической осведомленности, тогда и отнесенность этого мышления к помысленному им существенно отличается от отношения обычной «практико-технической» и «морально-практической» мысли к тому, что она, собственно, мыслит.
Обычное мышление, как научное, так и донаучное и ненаучное, мыслит сущее (das Seiende), причем мыслит его в отдельных его областях, обособленных друг от друга пластах и ограниченных связях. Это мышление есть не что иное, как ориентация в сущем, знание о котором помогает так или иначе им овладеть и господствовать над ним. В отличие от такого знания, овладевающего сущим, мышление мыслителей есть мышления бытия. Их мышление есть отступление перед бытием. Помысленное в таком мышлении мы называем началом. Итак, теперь это означает: бытие есть начало. Однако не каждый мыслитель, должный мыслить бытие, мыслит начало. Не каждый мыслитель, даже стоящий у истока западноевропейского мышления, есть изначальный мыслитель, то есть мыслитель, мыслящий именно начало.
Анаксимандр, Парменид и Гераклит — единственные начальные мыслители. Они таковы не потому, что открывают и начинают западное мышление. Мыслители были и до них. Они таковы потому, что мыслят начало. Оно есть помысленное в их мысли. Кажется, будто «начало» — это некий предмет, за который мыслители, так сказать, берутся, чтобы его основательно продумать, но на самом деле общим для мышления настоящих мыслителей является отступление перед бытием. Если же в глубинно мыслящем мышлении начальное мышление оказывается высшим, тогда здесь совершается отступление особого рода, ибо эти мыслители «берутся» за «начало» не так, как исследователь «решительно принимается» за предмет своего исследования. Кроме того, для них оно не является произвольным порождением мысли. Начало не есть нечто, отданное на милость этих мыслителей, с каковым они в своем его постижении поступают так-то и так-то. Напротив, начало есть то, что само нечто совершает с этими мыслителями, ибо так захватывает их, что им приходится совершить предельное отступление перед бытием. Такие мыслители суть мыслители, при-чиненные этим на-чинанием начала к нему самому, как бы настигнутые им и собранные вокруг него.
Говоря о «трудах» этих мыслителей, мы уже искажаем истинную картину, но даже если в силу необходимости мы действительно пока так говорим, надо иметь в виду, что их «труды», даже если бы они дошли до нас целиком, по «объему» представляют собой нечто совершенно ничтожное в сравнении с «трудами» Платона и Аристотеля и тем более — с «трудами» мыслителей Нового времени. Платон, Аристотель и позднейшие мыслители гораздо «больше» мыслили, они продумали больше областей и пластов мысли, они ставили свои вопросы, исходя из более широких познаний о человеке и вещах. Тем не менее все они мыслят «меньше» начальных мыслителей.
Новоевропейский мыслитель столкнулся со своеобразной трудностью: чтобы что-то сказать о том, о чем ему действительно надо сказать, он непременно пишет книгу объемом в четыреста или более страниц. Это бесспорный признак того, что новоевропейское мышление находится вне сферы мышления начального. Можно вспомнить о «Критике чистого разума» Канта, о «Феноменологии духа» Гегеля. По этим признакам понимаешь, что в мире уже давно что-то не так и человек сбился с пути. Вспомним и о том, что основополагающая книга новоевропейской философии, а именно «Размышления о первой философии» Декарта («Meditationes de prima philosophia»), насчитывает чуть больше ста страниц, а принципиально важные трактаты Лейбница вмещаются в несколько листов почтового формата. Эта, на первый взгляд, чисто внешняя деталь указывает на то, что в данных работах, по своей внутренней структуре также очень лаконичных и простых, совершается тот поворот в мышлении, который хотя и не достигает начала, но тем не менее приближается к его сфере. Уже давно вынужденные выбирать то, что нам нужно, из великого множества написанного и сказанного, мы утратили способность слышать то малое и простое, что звучит в слове начальных мыслителей.
Трудность понимания и тягота осмысления объясняются не мнимой трудностью текста, а одной лишь неготовностью и неспособностью к осмыслению, которые живут в нас самих. Перед лицом начала у нас нет возможности выбирать: мы или становимся на путь, ведущий к нему, или избегаем этого пути. Здесь мы пытаемся подготовиться к первому.
Исходя из сказанного, все свои усилия мы направляем на то, чтобы просто прислушаться к слову начальных мыслителей. Мы начинаем с Парменида, сказанное которым дошло до нас в разных по величине фрагментах. Довольно ясно воссоздаваемое целое, к которому принадлежат рассматриваемые отрывки, в стихотворной форме выражает мысли данного мыслителя, то есть его философское «учение». Поэтому принято говорить о «дидактической поэме» Парменида. Фрагменты помечаются римскими цифрами (например, VIII, 45 означает: восьмой фрагмент, сорок пятый стих). Перед тем как приступить к разъяснению какого-либо отрывка, мы даем его перевод, в котором сказанное на греческом переводится на немецкий. Немецкий для нас родной, но перевод и ознакомление с ним ни в коей мере не являются залогом того, что мы поймем сказанное мыслителем. Зная об этом, на первом часе мы ясно сказали, что прилагаемый перевод уже содержит определенное истолкование текста, которое, конечно же, требует пояснения.
Поэтому надо как следует запомнить: хотя перевод и предлагает определенное истолкование, но, слушая только его, мы не можем быть уверены, что смысл текста станет для нас вполне очевидным, а поскольку перевод говорит нам на немецком, то опасность неправильного понимания только увеличивается. Ведь теперь вместо того чтобы обращаться к греческому, мы охотно имеем дело с немецким, ориентируясь на те значения слов, которые нам хорошо известны, и забывая, что каждое слово перевода должно черпать свое содержание из всей полноты мыслимого мыслителем. Если, например, в переводе встречается слово «путь» или «сердце», это ни в коей мере не говорит о том, что мы уже знаем, чтó в данном случае оно означает; ни в коей мере не говорит, что мы уже готовы мыслить его вполне в духе Парменида. Нельзя, правда, отрицать и того, что каждому известно, что же «обычно» подразумевается под «путем» и «сердцем». Тем не менее только тот перевод, который прошел через истолкование, может в какой-то мере говорить за себя.
Мы начнем с разъяснения первого фрагмента, а именно заключительных стихов (22—32). Итак, перевод гласит:
22 И богиня приняла меня благосклонно, взяла десницей
Десницу и, обратившись ко мне, сказала так:
«О Курос (Юноша), спутник бессмертных возниц,
25 На конях, которые тебя несут, прибывший в наш дом,
Привет тебе! Ибо отнюдь не злая Участь (Мойра) вела тебя пойти
По этому пути — воистину он запределен тропе человеков —
Но Закон (Фемида) и Правда (Дикэ). Ты должен узнать все:
Как непогрешимое сердце легко убеждающей Истины,
30 Так и мнения смертных, в которых нет непреложной достоверности.
Но все-таки ты узнаешь и их тоже: как о кажущихся вещах
32 Надо говорить правдоподобно, обсуждая их все в совокупности.
Итак, Парменид рассказывает о богине. Появление «божественного существа» в размышлении мыслителя изумляет. Прежде всего потому, что мыслитель не должен провозглашать весть божественного откровения: он ведь сам высказывает то, о чем сам же и спрашивал. Но даже там, где мыслители мыслят «божественное», как это происходит во всякой «метафизике», это божественное (τό θείον) мышление, как говорит Аристотель, все равно является мышлением из «разума», а не воспроизведением каких-либо положений культовой и церковной «веры». Появление «богини» в поэме Парменида особенно удивляет потому, что она есть богиня «Истина». Ведь подобно «красоте», «свободе», «справедливости» «истина» воспринимается нами как нечто «всеобщее», как то, что выведено из особенного и действительного, из частных случаев истинного, справедливого и красивого и потому предстает как «отвлеченное», в одном лишь понятии. Делать же «истину» «богиней» значит превращать чистое понятие о чем-либо, а именно понятие о сущности истинного, в некую «личность».
b) Два указания в переводе слова ἀλήθεια.
Спорное несокрытости.
Предварительное разъяснение существа
ἀλήθεια и сокрытости.
Пере-вод и пере-вод
Если, поначалу смутно расслышав, что в рассматриваемой нами «поэме» Парменида речь идет о какой-то богине «Истине», мы решаем, что в данном случае «абстрактное понятие» «истины» «персонифицируется» в некое божество, мы тотчас самонадеянно уподобляемся тем, которые верят, будто они знают, что есть «истина» и какая именно «божественность» присуща греческим богам.
На самом деле ни о том, ни о другом мы ничего не знаем. Даже когда считаем, что, взяв за основу учение Платона и Аристотеля об истине, мы вполне осведомлены о том, как греки мыслили существо истины, мы уже на ложном пути, который никогда не приведет к тому, что имели в виду ранние мыслители, говоря о том, что мы обозначаем этим словом. Если бы мы прямо спросили себя, о чем мы думаем, произнося слово «истина», мы тотчас столкнулись бы со множеством путаных «мнений», да и просто с общей растерянностью. Правда, при таком положении дел важнее оказывается не число разнящихся между собой толкований истины и ее существа, а растущее осознание того, что до сих пор мы вообще не пытались основательно и серьезно осмыслить, что же это такое - «истина». При этом мы постоянно стремимся к «истине». Каждая историческая эпоха ищет «истинное».
Но как же редко и мало человек слышит о существе истинного, то есть об истине! Даже если бы нам, сегодняшним, повезло знать это существо, наше знание не стало бы залогом осмысления всего того, что в раннем мышлении, а именно у греков, постигалось как существо истины. Ведь не только ее существо, но и существо всего сущностного в тот или иной период времени наделено своим собственным, неповторимым смысловым богатством, почерпнуть из которого та или другая историческая эпоха может только в малой степени.
Если мы, не прибегая к доказательствам, сразу решим, что богиня Ἀλήθεια, о которой говорится в «поэме» Парменида, появляется там не только ради «поэтического» украшения текста, если решим, что, напротив, «существо» «истины» всюду властно дает о себе знать в слове этого мыслителя, тогда нам необходимо заранее прояснить существо того, что мы называем словом ἀλήθεια.
Если мы стремимся, предавшись напряжению мысли, настолько приблизиться к существу ἀλήθεια, чтобы она сама коснулась нас, нам придется пройти немало окольных дорог и рассмотреть немало перспектив — нам, удаленным от этого существа дальше, чем греки, которые тоже уже были удалены от него. Тем не менее это необходимо, если мы даже немногое из Анаксимандра, Гераклита и Парменида можем помыслить в измерении, открывающем то, что предстает для этих мыслителей как должное-быть-помысленным и останется таковым, хотя и неявно, в будущем. Все усилия хотя бы издалека хоть в чем-то помыслить ά-λήθεια так, как ее мыслили они, будут напрасными, пока мы не отважимся помыслить λήθη, в которую нас, по всей вероятности ἀλήθεια и отсылает.
То, что мы привычно «переводим» словом «истина», греки называют ἀλήθεια. Если мы переведем это слово «буквально», нам придется сказать не «истина», а «несокрытость». Кажется, что «дословный перевод» состоит лишь в том, чтобы какому-либо греческому слову подыскать соответствующее немецкое. Буквальный словесный перенос этим начинается и на этом заканчивается, но перевод не исчерпывается такой подстановкой «слов», которые потом, в родном языке, выглядят надуманно и некрасиво. Заменяя греческую ἀλήθεια немецкой «несокрытостью» (Unverborgenheit), мы еще ничего не переводим. До настоящего перевода дело доходит только тогда, когда выбранная нами «несокрытость» пере-водит нас в ту сферу опыта и тот способ постижения, из которых греки, и в данном случае начальный мыслитель Парменид, говорят слово ἀλήθεια. Поэтому мы зря играем «словами», когда — как в последнее время стало модным в случае со словом ἀλήθεια — переводим его как «несокрытость», но тут же эту «несокрытость», теперь заменяющую нам «истину», наделяем таким значением, которое приходит нам в голову из привычного для нас позднейшего употребления все того же слова «истина» или просто несет на себе печать всего более позднего способа мыслить.
Таким образом, то, что именуется словом «несокрытость», то, что, соразмерно грекам, нам надо мыслить, когда мы слышим имя Ἀλήθεια, еще не постигается нами, не говоря уже о том, чтобы оно сохранялось в контексте строгого мышления. Быть может, специально придуманное слово «раскрытие» (Entbergung) в большей степени отражает существо греческой ἀλήθεια, чем термин «несокрытость», который тем не менее по разным причинам поначалу вполне подходит для ключевого слова в размышлении над существом ἀλήθεια. Не будем однако забывать, что в дальнейшем речь пойдет о «несокрытости и сокрытии» и что мы осознанно избегаем вполне естественно напрашивающегося термина «несокрытие», хотя он является «самым буквальным» переводом[i].
Всякая попытка дать «буквальный» перевод таких основополагающих слов, как «истина», «бытие», «видимость» и т. д., тотчас вводит нас в сферу проекта, ни в коей мере не ограничивающегося искусным подбором тех или иных словообразований. Мы поймем это скорее и глубже, если подумаем о том, что же вообще представляет собой «перевод». Поначалу мы воспринимаем этот процесс с чисто внешней технико-филологической стороны. Принято считать, что «перевод» — это как бы перенос одного языка в другой, чужого в родной или наоборот. Говоря так, мы не понимаем, что уже свой собственный, родной язык мы постоянно переводим в его же собственное слово. Говорение и сказывание в самом себе является переводом, сущность которого ни в коей мере не проявляется в том, что переводящее и переводимое принадлежат различным языкам. В любом разговоре, в любом монологе уже царит изначальный перевод, причем дело не только в том, что, заменяя одно выражение другим в одном и том же языке, мы пользуемся полученной «перифразой». Замена слов уже является следствием того, что то, о чем надо сказать, пере-велось в другую истину, в другую ясность или же по-другому стало достойным вопрошания. Это пере-ведение может совершаться и без изменения собственно языкового выражения. Стихи поэта, трактат мыслителя имеют свое собственное, однократное, неповторимое слово. Они заставляют нас всякий раз вновь и вновь так прислушиваться к нему, как будто мы слышим его впервые. Каждый раз эти слова-первенцы переносят нас на новый берег. Так называемый пере-вод и перифраза всегда лишь следуют за пере-водом всего нашего существа в сферу изменившейся истины. Только после того как мы оказываемся во власти этого пере-вода и становимся как бы его собственностью, мы начинаем подыскивать слова. Только в том случае, если у нас есть это чуткое отношение к языку, мы можем приступить к почти всегда более легкой и ограниченной задаче перевода чужой речи в свою собственную.
Что касается перевода своего языка в исконно свое же речение, то эта задача всегда оказывается более тяжелой. Например, перевод какого-нибудь немецкого мыслителя на немецкий язык оказывается особенно трудным потому, что здесь мы имеем дело с укоренившимся предрассудком, будто немецкую речь мы понимаем сразу, потому что это наш язык, тогда как при переводе греческой речи мы имеем дело с чужим языком, которому, дескать, еще надо выучиться. Здесь, правда, мы не имеем возможности более подробно поговорить о том, почему и в какой мере любой разговор и всякое сказывание является изначальным переводом внутри собственного языка и что тут, собственно, подразумевается под «переводом», хотя, наверное, в ходе данной вводной лекции об ἀλήθεια мы время от времени будем иметь возможность что-то об этом узнать.
Для того чтобы суметь пере-водить в сферу греческой ἀλήθεια и, таким образом, впредь произносить это слово более осмысленно, мы сначала должны просто пробудиться и последовать тому указанию, которое дает выбранное нами в качестве перевода слово «несокрытость». Благодаря этому указанию мы как бы улавливаем само направление пере-вода. Ограничившись основными особенностями этого указания, мы увидим, что оно имеет четыре аспекта.
Во-первых, слово «не-сокрытость» наводит нас на мысль о «сокрытости». Чтό было сокрыто перед тем, как о себе заявила «несокрытость», кто именно это скрывает и как происходит сокрытие, когда, где и для кого это сокрытие имеет место — все это остается неясным, причем не только теперь и для нас, стремящихся осмыслить природу ἀλήθεια в контексте ее перевода как «несокрытости»: то, на что нам намекает сокрытость, остается неопределенным и даже не становится предметом вопрошания также у греков и как раз у них. Они как бы намеренно постигают и именуют в слове именно несокрытость. Тем не менее теперь отсылка в сокрытость и сокрытие открывает для нас более ясную сферу опыта. Ведь мы сами так или иначе знаем нечто похожее на сокрытие и сокрытость. Мы знаем его как утаивание, закутывание, закрытие, и оно же встречается как сохранение, сбережение, удержание, доверение и переусвоение. Сокрытие предстает перед нами в разнообразных формах закрытия и закрытости. Когда мы размышляем об этих способах сокрытости и сокрытия, «несокрытость» тотчас приобретает более ясные очертания. Говоря откровенно, область «сокрытия-несокрытия» даже ближе и доступнее нам, чем то, что обычно подразумевается под привычными терминами veritas и «истина». Строго говоря, слыша или произнося слово «истина», мы не можем ничего помыслить и тем более «наглядно» представить. Нам сразу же приходится звать на помощь взятое откуда-нибудь «определение» истины, чтобы наделить это слово каким-нибудь значением. Для того чтобы освоиться в сфере значений данного слова, мы сразу вынуждены прибегать к особому размышлению. «Несокрытость» же, напротив, тотчас как-то по-иному затрагивает нас, даже если на первых порах мы ощупью, неуверенно пытаемся выяснить, что же здесь, собственно, имеется в виду.
Во-вторых, слово «несокрытость» указывает на то, что, когда греки постигают существо истины, совершается нечто похожее на упразднение и устранение сокрытости. Приставка «не-» соответствует греческому ἀ-, которое в грамматике называется «α privativum». О какой именно privatio, о каком лишении и отъятии идет речь при использовании таких привативных словообразований, всякий раз надо говорить с учетом того, что именно подвергается лишению и ущербу. «Не-сокрытость» означает, что сокрытость удаляется, упраздняется, преодолевается, изгоняется, причем это удаление, упразднение, преодоление и изгнание существенно отличаются друг от друга. Кроме того, «не-сокрытость» означает, что сокрытость вообще не допускается; что, будучи возможной и постоянно создающей угрозу, она не существует и не появляется. Столкнувшись со смысловым многообразием приставки не, легко понять, что уже в этом отношении не-сокрытость тяжело поддается определению, и тем не менее именно здесь проявляется основная особенность существа не-сокрытости, которую мы не должны упускать из вида, если хотим постичь греческое начальное существо «истины». В самой несокрытости исконно присутствует, бытийствует внутреннее противоборство. В существе истины как не-сокрытости каким-то образом совершается спор с сокрытостью и сокрытием.
ПОВТОРЕНИЕ
2) Вопрос об имени богини и его переводе.
Существо истины первых двух указаний, противоположное сокрытости.
Не-сокрытость и не-сокрытость
Отрывок, с которого мы начнем наше разъяснение, относится к первому фрагменту и начинается 22 стихом: καί με θεά πρόφρων ύπεδέξατο («и богиня приняла меня благосклонно..»).
Богиня, которая здесь появляется, — это богиня Ἀλήθεια. В обычном переводе мы говорим: богиня «Истина». Она приветствует прибывшего к ее дому мыслителя и сразу же говорит о том, чтό ему предстоит узнать в будущем. Оно предстанет перед этим мыслителем как должное быть помысленным и отныне останется в истории истины как то, что должно быть помысленным начально. Из сказанного мы легко узнаем, хотя лишь в общих чертах, что существо богини «Истины» решает все, что касается мыслителя и того, что он должен помыслить. Поэтому прежде чем приступить к формальному разъяснению отдельных фрагментов и стихов, мы должны попытаться прояснить это существо. Преследуя такую цель, мы задаемся вопросом: что означает имя богини, то есть что означает греческое слово ἀλήθεια, которое мы переводим словом «истина»? На первый взгляд кажется, что здесь мы «занимаемся» словом. Поскольку слово, язык стали для нас средством коммуникации и орудием достижения договоренности, наряду с другими, «занятие» «словом» сразу же сказывается на нас роковым образом. Картина такая, как будто мы, вместо того чтобы сесть на мотоцикл, стоим перед ним и разговариваем на тему езды, всерьез полагая, что тем самым обучаемся ей. На самом деле слово — вовсе не орудие, даже если принято считать, что язык — это всего лишь средство общения или вообще средство связи, и потому, например, нет никакой разницы, произносим ли мы слово «университет» и при этом успеваем еще о чем-то подумать или просто там и сям бросаем привычное для нас «уни» и только. Сегодня, наверное, «учатся» только в «уни». Впрочем, мы «словами» не «занимаемся». В науке, правда, ими можно «заниматься» точно так же, как историей развития дождевых червей. Итак, в «дословной» замене одного слова на другое ά-λήθεια означает «не-сокрытость». Акцентируя внимание на «дословном», мы считаем, что всерьез относимся к слову, однако на самом деле мы пренебрегаем словами, пока весь наш интерес сводится только к «словам». «Дословный» перевод не должен стремиться к калькированию и «обогащать» язык «новыми», непривычными и нередко неуклюжими словами: он должен за непосредственно «переводящими» словами осмыслять саму живую речь. Знакомство с отдельными словами еще не дает знания речи. Слова в потоке речи — это собственно сказываемое: речение, язык. Если мы, правда, относимся ко всему «словесному» так, что сразу и потому постоянно вникаем в слово-речение и мыслим из него, тогда почитание «дословного» оправдано, но только при таком условии.
Слово, взятое в его «дословном» значении, необходимо слушать как бы прислушиваясь к тем указаниям, которые к нему отсылают. В таком прислушивании (Horchen) наше вслушивание становится по-слушным (gehorcht) тому, о чем говорит слово. Оно учится внимать. И становится мышлением.
А теперь постараемся последовать тем указаниям, которые дает нам наша дословная «несокрытость», чтобы яснее расслышать греческое слово ἀλήθεια и хоть в какой-то мере предугадать, как греки понимали «истину». Слово «несокрытость» указывает на четыре момента.
Первые два можно уловить и удержать благодаря различной акцентуации этого слова: не-сокрытость и не-сокрытость. Не-сокрытость в первую очередь отсылает к «сокрытости», а там, где имеет место сокрытость, должно совершаться или уже совершилось сокрытие. Сокрытие может происходить по-разному: как покрытие или утаивание, как сохранение или откладывание, как закрытие или изначальное сбережение (как, например, в случае с родником, который может бить лишь до тех пор, пока спрятан и сбережен). Но что постигают и мыслят греки, соотнося с «несокрытостью» ту или иную сокрытость, мы не можем узнать сразу. Для этого необходимо особое размышление, а для него надо, чтобы мы вообще знали определенный круг способов сокрытия. Ведь только при таком условии по-гречески мыслимая «сокрытость» и отведенная ей сущностная сфера в достаточной степени проявляют себя. Но еще не вступив в нее, мы видим, что, греческое слово ἀλήθεια, переведенное как «несокрытость», уже в какой-то мере близко нам, потому что опытная сфера «сокрытия» и «несокрытия», «сокрытого» и «несокрытого» изначально более знакомы и понятны, чем любое значение, которым мы сразу вынуждены наделять расхожее слово «истина», прибегая для этого к некоему дополнительному раздумью. Кроме того, таким образом полученное «значение» и «определение» «истины» мы вынуждены всякий раз специально отмечать. При этом мы рискуем воспользоваться только одним из множества определений, предлагаемых различными философскими точками зрения. Что касается сокрытия, то его мы уже знаем, независимо от того, идет ли речь о самих вещах и их взаимосвязях, которые остаются сокрытыми для нас, о том, что мы сами прибегаем к какому-либо сокрытию, осуществляем и допускаем его, или о том, что и то, и другое, то есть как самосокрытие «вещей», так и наше их сокрытие через нас как бы переплетаются между собой.
Второй аспект, к которому мы обращаемся, заостряя внимание на приставке в слове «несокрытость» (не-сокрытость), примечателен тем, что, осмысляя существо истины, греки мыслят нечто вроде устранения, упразднения и уничтожения сокрытости. В соответствии с этой негацией сокрытости истина для греков является как бы чем-то «негативным». Обнаруживается удивительный факт, осознанию которого нам мешает привычное для нас и лишенное какой-либо негации слово «истина» (так же, как veritas и verité). То, что означает приставка «ἀ-» в слове ά-λήθεια и приставка «не-» в слове «не-сокрытость», поначалу так же смутно и зыбко, как неясно и значение упраздненной и «подвергнутой негации» сокрытости. Мы ясно видим лишь одно: сущность истины как не-сокрытости каким-то образом противостоит сокрытости. Кажется, что несокрытость пребывает в «споре» с сокрытостью, и природа этого спора остается неясной.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ТРЕТЬЕ УКАЗАНИЕ, ДАВАЕМОЕ «НЕСОКРЫТОСТЬЮ»
КАК ПЕРЕВОДОМ СЛОВА ΑΛΗΘΕΙΑ:
БЫТИЙНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СФЕРА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ
ΑΛΗΘΕΙΑ И ΛΗΘΗ
§ 2. Первое размышление об изменении сущности истины
и о ее противосущности
а) Спорное в не-сокрытости. Третье указание: внутреннее борение, совершающееся в истине.
Отголосок ἀλήθεια в «субъективности». Гегель и Шеллинг.
О противоположности сокрытости и несокрытости, ложности и истины
«Истина» никогда не наличествует «в себе», но завоевывается. Несокрытость отвоевывается в споре с сокрытостью. Причем несокрытость отвоевывается не только в расхожем понимании этого слова, то есть в том смысле, что люди ищут истину и борются за нее. Скорее само искомое, составляющее предмет борения, в себе самом, безотносительно к борьбе человека за него, в своем существе является спором, борением: «несокрытость». Неясно, правда, кто именно здесь сражается и как это борение протекает. Необходимо, наконец, осмыслить это исполненное внутренней борьбы существо истины, которое уже две с половиной тысячи лет светит в самом тишайшем из всех огней. Необходимо постичь именно то борение, которое совершается в самом существе истины.
Пока, правда, сущность этого спора остается спорной. Можно предположить, что здесь «спор» подразумевает нечто отличное от простой ссоры и распри, нечто непохожее на слепое препирательство, равно как отличное от «войны» и непохожее на «состязание». Быть может, все перечисленное — лишь поверхностные смысловые вариации того спора, изначальная сущность которого сокрыта в существе истины, понимаемой как ἀλήθεια, том существе, которую мы надеемся однажды постичь. Быть может, лишь в увечном виде приводимое изречение Гераклита, которым довольно часто злоупотребляют («Πόλεμος πάντων ... πατήρ ἐστι», «война есть отец всего сущего») лишь внешним образом созвучно греческому мышлению.
Можем ли мы хоть в какой-том мере правильно осмыслить сущность греческого πόλεμος, который в словаре буквально переводится как «война», можем ли хоть в какой-то степени хотя бы предощутить упомянутую здесь сущность «полемического», если ничего не знаем о том борении, которое даже в существе истины остается родным ему? Как нам узнать то изначально борющееся, которое присуще сущностному борению, совершающемуся в истине, если мы не пережили ее существо как несокрытость, если, в лучшем случае, об ἀλήθεια мы знаем по дословному переводу, появляющемуся то здесь, то там? Уже давно существо истины как чего-то внутренне противоречивого, борющегося в самом себе, стала чуждой нам и всему западноевропейскому мышлению. «Истина», напротив, воспринимается как нечто такое, что находится по ту сторону всякого внутреннего спора, и потому должно оставаться бес-спорным.
Мы не понимаем, каким образом существо самой истины в себе самой является внутренним борением. Если же в начальном мышлении греки действительно постигают внутренне противоречивую природу истины, тогда нет ничего удивительного в том, что в изречениях иначальных мыслителей мы слышим как раз о «борении». Якоб Буркхардт и Фридрих Ницше научили нас помнить об «агональном начале» в эллинстве и усматривать в «состязании» тот существенный «импульс», который играл важную роль «в жизни» этого народа. Однако не мешает спросить, на чем именно основывается «агон» и откуда сущность «жизни» и человека получает свое определение, становясь «агональной». Ведь «состязательное» может пробудиться только там, где борение уже постигнуто как нечто действительно существующее. Если же нам начинают говорить о том, что агональная природа эллинства обусловлена «состязательным» нравом этого народа, то такое «объяснение» по своей бессмысленности равнозначно тому, как если бы, решив «объяснить», в чем заключается сущность мышления, мы ответили: в способности мыслить.
Мы уже отмечали, что, во-первых, несокрытость принадлежит той сфере, в которой совершается сокрытие и сокрытость, и, во-вторых, не-сокрытость обнаруживает свою внутренне противоречивую природу, то есть, когда в ней начинает проявляться то, что противоборствует сокрытию, она предстает как раскрытие (Entbergung).
Третий аспект указания, даваемого «несокрытостью», заключается в том, что в силу своей внутренне противоречивой природы истина пребывает в отношении «противоположности» к себе самой[ii]. Согласно распространенному учению об истине, ее противоположностью является только «не-истина» в смысле ложности. Нечто может быть либо истинным, либо ложным. Правда, в эпоху первого завершения западноевропейской метафизики мысль, в философии Шеллинга и Гегеля, приходит к тому, что нечто одновременно, хотя и в разных отношениях, может быть как истинным, так и ложным. Здесь также (а именно в форме «негативности») в сущности истины проявляется нечто находящееся во внутреннем противоречии. Однако мнение о том, что все сказанное о внутренне противоречивой природе истины, целиком находит свое отражение в учениях Шеллинга и Гегеля или, по крайней мере, позволяет верно себя осмыслить с помощью этой метафизики, будет еще более роковым, чем простое незнание этих связей. Ведь в новоевропейской метафизике Шеллинга и Гегеля основной особенностью истины никогда не была ἀλήθεια в смысле несокрытости: там ее основной чертой всегда была достоверность в смысле certitudo, которая со времен Декарта определяет сущность истины, предстающей как veritas. Мысль о самодостоверности самосознающего субъекта чужда эллинству. Наверное, в современной «субъективности духа» — которая, если ее правильно понимать, не имеет ничего общего с «субъективизмом» — еще слышится отголосок видоизмененной греческой ἀλήθεια, но, как известно, никакой отголосок не соразмерен исконному звучанию. Изначальное обращается только к изначальному. Одно не может быть вобрано в себя другим. В то же время и первое, и второе есть одно и то же — даже тогда, когда, казалось бы, они уходят друг от друга в несоединимое. Это имеет силу для четвертого аспекта нашего указания, которое приоткрывает вслушивающемуся раздумью смысл греческого сказывания об ἀλήθεια.
Этот в данном случае необходимый, но, правда, довольно краткий экскурс в историю сущности истины в западноевропейском мышлении одновременно дает понять, что мы можем пасть жертвой грубых фальсификаций, если решим, так сказать, упорядочить мысль Парменида и Гераклита с помощью новоевропейской «диалектики», ссылаясь на то, что в начальном мышлении греков «противоположное» и даже основная противоположность бытия и ничто «играют определенную роль». Вместо удобного и на первый взгляд вполне философского подхода, суть которого заключается в том, чтобы, опираясь на Шеллинга и Гегеля, толковать греческую философию, мы должны учиться чуткому бдению мысли и следовать тем указаниям, которые открывают нам истину в форме несокрытости. Можно было бы, конечно, сразу же возразить, сказав, что, живя сегодня, мы и начальное греческое мышление понимаем только через его толкование из наших представлений, причем тогда все-таки пришлось бы задаться вопросом, не стоит ли мышление Шеллинга и Гегеля и весь их труд несравненно выше сегодняшнего мышления. Кто, будучи человеком рассудительным, станет это отрицать? Надо также признать: начало, о котором мы говорим, обнаруживается, если оно обнаруживается вообще, конечно же, не без нашего содействия. Однако вопрос в том, каково это содействие, откуда и как оно определяется и становится. Кроме того, кажется, что наше теперешнее рискованное стремление помыслить начало — не что иное, как попытка, исходя из настоящего и ради настоящего, упорядочить прошлое в плане одной только историографии. Наверное, было бы бесполезно, а главное неправильно — высчитывать, что потребует более существенных усилий и подготовки: обоснование и раскрытие основной метафизической позиции в контексте всего западноевропейского мышления или простое внимание началу. Разве кто-нибудь станет отрицать, что, предпринимая такую попытку, мы постоянно рискуем слишком забегать вперед со всеми своими представлениями? И все-таки мы стремимся прислушиваться к тем указаниям, которые дает нам едва ли помысленное и во всех отношениях трудно поддающееся осмыслению существо несокрытости.
Несокрытость указывает на «противоположность» сокрытости. Обычно о противоположности истине говорят как о не-истине в смысле ложности. В западноевропейском мышлении и сказывании, в том числе и в поэзии, такая противоположность обнаруживается довольно рано, однако после того, что мы сказали об истине как несокрытости, не стоит слишком скоро привносить позднейшие понятия ложного и ложности в ранние «представления». С другой стороны, мы только тогда сможем в достаточной мере осмыслить ранние значения «ложного» как противоположности истинному, когда осмыслим истинное в его истине, то есть осмыслим несокрытость. Однако эта несокрытость (ἀλήθεια), в свою очередь, в достаточной мере улавливается только в ракурсе противоположной ей сущности, то есть в ракурсе не-истины и в данном случае — ложности, причем улавливается в той сфере сущностного опыта, которую намечает сама ἀλήθεια. Отсюда становится ясно, что мы никогда не можем мыслить порознь «истинное» и «ложное», «истину» и «ложность» и тем более обособленно мыслить истину как «несокрытость», ибо в самом ее именовании как «несокрытости» уже обнаруживается связь с «сокрытостью». Таким образом, если в раннем мышлении ложность, помимо прочего, уже выступает как противоположность истине в смысле несокрытости, тогда сущность этой ложности как противоположности несокрытости должна являть собой нечто похожее на сокрытость. Если несокрытость накладывает свой отпечаток на существо истины, тогда нам надо попытаться понять ложность как сокрытость.
b) Вопрос о сущности, противоположной сущности ἀληθές.
Отсутствие слова ληθές и наличие слова ψεΰδος.
Прикровенность основных, значений.
Антоним λαθόν и по-гречески осмысленное λανθάνομαι.
Забвение, постигнутое в ракурсе сокрытия.
Гомер, «Илиада», XVIII, 46; X, 22.
«Одиссея», VIII, 93
Итак, следуя этому указанию, мы прежде всего должны спросить, как звучит слово, которым обозначается сущность, противоположная сущности ἀλήθεια. Τò ἀληθές переводится как «истинное», но в соответствии с истолкованием ἀλήθεια как несокрытости данное τò ἀληθές означает «несокрытое». Однако до тех пор, пока не ясно, как именно следует мыслить «несокрытость», переводить τò ἀληθές как «несокрытое» надо с большими оговорками. Противоположность «несокрытому», а именно «сокрытое» как именование появляется легко: достаточно отбросить α-privativum, упразднить устранение сокрытого и дать возможность существовать ему самому, «сокрытому». Если иметь в виду буквальное написание, то, отбросив упомянутую привативную альфу, мы получаем ληθές, однако все дело в том, что нигде нельзя найти это слово как обозначение ложного. Более того, у греков ложное обозначается другим словом — τò ψεΰδος. У него совсем иное происхождение, другой корень и к тому же другое основное значение, которое сразу не определить. Если в корне «λαθ» слышится «сокрытие», то ψεΰδος такого сокрытия не подразумевает, по крайней мере, сразу оно не выступает на первый план. Хочется вспомнить о том, что и в нашем языке антоним к слову «истина» (Wahrheit), а именно «ложность» (Falschheit), тоже выглядит по-своему, хотя можно предположить, что греческие антонимы ἀλήθεια — ψεΰδος по смыслу ближе друг другу, чем соответствующие немецкие. Возможно, начав осмыслять природу ἀλήθεια в контексте уже упомянутого нами ψεΰδος, мы поймем его, то есть ψεΰδος, более точно, а тот факт, что именно ψεΰδος остается распространенным антонимом к ἀλήθεια, даст нам определенные намеки на то, как понимать саму ἀλήθεια.
Стремясь уловить основные значения слов и речений, мы нередко руководствуемся недостаточно обоснованными представлениями о языке как таковом, что приводит к распространенным ошибкам. Не надо думать, что слова имеют какое-то изначальное чистое значение, которое со временем искажается и утрачивается. Основное корневое значение остается сокрытым и проявляется лишь в том, что мы зовем «производными словами», однако такой термин уже вводит в заблуждение, потому что предполагается, будто где-то в чистом виде существует некое «основное значение», из которого потом «выводится» все остальное. Эти неверные представления о слове, которые и сегодня еще господствуют в языкознании, появляются потому, что первое размышление о природе языка (греческая грамматика), осуществленное под водительством «логики», то есть учения о высказывании суждений, оформилось как учение о предложении. В соответствии с ним принято считать, что предложения состоят из слов, а слова обозначают «понятия», которые сообщают о том, что мы «в общем» представляем при появлении того или иного слова. Затем это «общее», характерное для понятия, воспринимается как «основное значение» слова, а «производные слова» предстают как особенности этого общего.
Однако когда в своем вопрошании мы начинаем вникать в природу основного понятия, руководящим остается совершенно иное понимание слова и языка. Очень удобно, конечно, считать, что мы разрабатываем так называемую «лингвистическую философию», которая все «вытаскивает» из одних только значений слова, но это мнение настолько поверхностно, что иначе как ложным его просто не назовешь. То, что мы называем основным значением слова, есть его изначальное (Anfängliches), которое появляется не в первую, а в последнюю очередь и даже тогда ни в коей мере не предстает как некая обособленная и препарированная структура, которую мы могли бы представить как таковую. Так называемое основное значение скрыто господствует в любой форме сказывания того или иного речения.
Итак, антоним к «несокрытому» (истинному) (ἀληθές) звучит совершенно по-другому: ψεΰδος. Мы переводим τò ψεΰδος как «ложное», не слишком вникая, что здесь означает «ложный» и каково — прежде всего — греческое значение данного слова. Самое время, наверное, подумать, наконец, о том, что антоним к ἀληθές — не ληθές, не λαθές или что-либо подобное (что, собственно, и напрашивается само собой), а именно ψεΰδος. Однако, указав на это обстоятельство, мы еще не в полной мере показали загадочность данной связи. Дело в том, что для слова ψεΰδος как обозначающего «ложное», имеется то, чего нам, правда, в обратном отношении, недостает, когда мы обращаемся к слову ἀληθές: мы имеем в виду однокоренной антоним с привативной α — τò ἀψευδές, то есть «неложное». Это то, что «не имеет ложного» и, таким образом, есть истинное. В восемнадцатой песне «Илиады» Гомер описывает плач Ахилла и его матери Фетиды по павшему другу Ахилла Патроклу. Вместе с Фетидой утрату оплакивают и богини моря Нереиды, среди которых упоминается ἡ Ἀψευδής, то есть «неложная» богиня. Остается сравнить оба именования, и важный намек налицо. Если у греков антонимом к «несокрытости» является «ложность» и, следовательно, истина выступает как не-ложность, тогда сокрытость должна определяться в ракурсе ложности. Если, кроме того, в сущности несокрытости господствует сокрытость, тогда мы имеем дело с загадочным фактом: у греков сущность ложности как бы налагает свой отпечаток (Gepräge) на сущность истины. Это может показаться диковинной бессмыслицей, если мы привыкли считать, что «позитивное» никогда не может возникнуть из негативного и самое большее, что возможно, — это обратный процесс, то есть возникновение негативного из позитивного. Однако теперь мы знаем, что уже в греческом слове, обозначающем сущность истины, выражается это загадочное: в этой сущности сокрытость и борение с нею не перестают играть решающую роль. Именно поэтому мы могли бы ожидать, что и в антониме к «несокрытости» столь же ясно проявит себя «сокрытость», однако вместо этого мы имеем ψεΰδος, и складывается впечатление, что антоним к ἀλήθεια, который был бы того же корня (λαθ), просто исчез.
Но так кажется только потому, что хорошо известное нам греческое слово λανθάνομαι (однокоренное слову ἀλήθεια) мы переводим таким образом, что существенное затуманивается. В словаре мы читаем, что λανθάνομαι означает «забывать» (vergessen), а что такое забывать, знает каждый. Мы сталкиваемся с этим каждый день. Но что это такое? Что имели в виду греки, когда то, что мы называем словом «забывать», они выражали словом λανθάνεσθαι?
Прежде всего нам необходимо прояснить смысл глагола λανθάνειν. Λανθάνω означает: «я сокрыт». Аористное причастие к этому глаголу – λαθών, λαθόν. Здесь мы и обнаруживаем искомый антоним к ἀληθές. Λαθόν есть сущее-сокрытым (Verborgenseiende); λάθρα означает «сокрытым образом», «тайно». Λαθόν означает то, что остается сокрытым, скрывается. Однако мы все-таки не можем сказать, что λαθόν, то есть сущее-сокрытым, в полной мере является антонимом к ἀληθές, «несокрытому», поскольку в антониме к несокрытому подразумевается ложное, а сокрытое мы не можем тотчас назвать ложным. Но, быть может, наоборот ψεΰδος, ложное, в своей сущности всегда остается неким видом сокрытого и сокрытия? Быть может, ψεΰδος нам надо понимать в ракурсе сокрытия и бытия-сокрытым (Verborgensein), особенно если в греческом мышлении и сказывании слова с основой, в которой слышится «скрывать» и «сокрытое», имеют определяющую смысловую силу? А они ее на самом деле имеют. Дело только в том, что во всем римском и романском, а также нашем, немецком, способе говорить и мыслить она совершенно утратилась. Прежде чем прояснить, как именно греки мыслили ψεΰδος, надо узнать, почему и в какой мере λανθάνειν, то есть бытие-сокрытым, играет для грека существенную роль во всяком проявлении сущего. Итак, λανθάνω означает: я остаюсь сокрытым. В восьмой песне «Одиссеи» мы читаем о том, как после праздничной трапезы, устроенной во дворце феакийского царя, певец Демодок в своем песнопении рассказывает о тяжелой участи, постигшей греков у ворот Трои. Вспомнив о тех временах и будучи не в силах совладать с охватившей его печалью, Одиссей покрыл голову мантией. Мы читаем:
ἔνθ̕ ἄλλους μὲν πάντας ἐλάνθανε δάκρυα λείβων,
Ἀλκίνοος δέ μιν οἰος ἐπεφράσατ̓ ἠδʼ ἐνόησεν ἥμενος
ἄγχʼ αὐτοΰ.
«Тогда он [Одиссей] незаметно для других прослезился,
И только Алкиной заметил его печаль...».
На первый взгляд кажется, что перевод Иоганна Фосса ближе оригиналу, потому что глагол ἐλάνθανε, стоящий в 93 стихе, определенным образом вобран в его немецкую редакцию:
«От всех прочих гостей он сокрыл набежавшие слезы...»
Однако ἐλάνθανε не является переходным (он сокрыл (слезы), a λανθάνω означает не «я скрываю», а «я сокрыт». Таким образом, ἐλάνθανε, сказанное об Одиссее, означает: «он (Одиссей) оставался сокрытым». Итак, «дословно» и в соответствии с греческим пониманием ситуации Гомер говорит следующее: «Тогда по отношению ко всем остальным он остался сокрытым как проливающий слезы». Согласно нашему способу говорить и мыслить было бы правильнее сказать, что Одиссей незаметно для других прослезился. Греки же мыслят наоборот: у них определяющим словом является «сокрытие» в смысле пребывания-сокрытым (Verborgenbleiben). Таким образом, греки говорят: как проливающий слезы Одиссей оставался сокрытым для других.
Приведем еще один отрывок, на сей раз из «Илиады», который подтверждает сказанное. В двадцать второй песне рассказывается о поединке Ахилла с Гектором. Ахилл бросает в него копье, Гектор наклоняется, и копье, пролетев мимо, вонзается в землю (277 стих):
ἀνὰ δʼ ᾕρπασε Παλλἀς Ἀθήνη,
ἂψ δʼ Ἀχιλήϊ δίδου, λάθε δʼ Ἕκτορα, ποιμένα λαών.
Фосс дает такой перевод:
«Быстро копье то схватив, протянула его Пелеиду,
И не узрел того Гектор, борьбой увлеченный».
Сказано в соответствии с «добротной» немецкой мыслью и речью: Афина, незаметно для Гектора, возвращает Ахиллу его копье. Но если мыслить по-гречески, то рисуется иная картина: возвращая копье, Афина остается сокрытой от Гектора. Мы видим, что «сокрытость» является основной особенностью поведения богини, и эта особенность и наделяет ее своеобразные действия характером «бытия». Тот факт, что в сравнении с греками мы как раз наоборот переживаем, мыслим и говорим, четко и ясно подтверждается нашим осмыслением известного эпикуровского девиза, который гласит: λάθε βιώσας. Используя «правильный немецкий», мы переводим: «Живи незаметно» (для других). Грек же говорит: «Пребывай сокрытым в том, как ты ведешь свою жизнь». Здесь сокрытость определяет характер присутствия человека среди людей. «Сокрытое» и «несокрытое» — это характер самого сущего, а не особенность восприятия и улавливания. Тем не менее и у греков слушание и сказывание имеют основную черту «истины» и «не-истины».
Итак, из сделанных нами немногочисленных ссылок становится, наверное, ясно, сколь решительно и властно в сознании греков область сокрытия и сокрытость, а также само событие сокрытия и сокрытости проникают собою сущее и отношение человека к нему. Если теперь, в свете сделанных ссылок мы еще раз попытаемся осмыслить самое привычное для нас греческое слово с основой λαθ, а именно глагол λανθάνομαι, нам станет ясно, что расхожий и «правильный» его перевод словом «забывать» вообще никак не передает самобытности греческого мышления.
Если мыслить по-гречески, тогда глагол λανθάνομαι означает: я пребываю сокрытым по отношению к обычно несокрытому для меня. Тем самым оно, со своей стороны, сокрыто, как и я в моем отношении к нему. Сущее погружается в сокрытость таким образом, что при таком его сокрытии я пребываю сокрытым по отношению к самому себе. Вместе с тем это сокрытие, со своей стороны, тоже скрывается. Это происходит тогда, когда мы говорим: я позабыл то-то и то-то. Когда мы забываем, у нас не просто что-то выпадает из памяти: само забывание впадает в такое сокрытие, при котором мы сами в нашем отношении к забытому попадаем в сокрытость. Поэтому, заостряя ситуацию, греки употребляют глагол ἐπιλανθάνομαι, чтобы сокрытость, в которую попадает человек, одновременно удерживалась в ее отношении к тому, что через нее ускользает от человека. Вряд ли в одном единственном слове можно еще необычнее помыслить сущность забывания.
В том, как греческий язык вообще удерживает глагол λανθάνειν («быть сокрытым») как «управляющий», а также в истолковании сущности забывания именно через событие сокрытия уже достаточно ясно видно, что в «вот-бытии» греков, то есть в их внутри-стоянии посреди сущего как такового, сущность сокрытия имеет первенствующее значение. Учитывая это, мы скорее начинаем предугадывать, почему истина постигается и осмысляется как «несокрытость». Но если сокрытие столь явно заявляет о себе, то не следует ли и сущность самого известного антонима к «истине», а именно сущность «ложности», то есть ψεΰδος, определять в ракурсе этого сокрытия, даже если в упомянутом антониме и нет корня λαθ -?
Мы только укрепимся в этом предположении, если подумаем, что ложное и неистинное, например, неправильное суждение, представляют собой некий вид незнания, в котором «истинное» положение дел от нас ускользает, причем это ускользание похоже, хотя и не полностью, на «забывание», «забвение», постигаемое греками в ракурсе сокрытия. Вопрос о том, осмысляли ли греки сущность ψεΰδος в смысловом контексте сокрытия, мы сможем решить только тогда, когда прислушаемся к тому, как вообще они выражали свой опыт познания, и на первых порах не будем вникать в то, что именно греческие мыслители говорили о ψεΰδος как таковом.
ПОВТОРЕНИЕ
Τò ψεΰδος как противоположность ἀληθές.
Корневое родство между ἀλήθεια и λανθάνω.
Ссылка на «Одиссею» Гомера (VIII, 93). Ускользание забвения
Итак, мы пытаемся прислушаться к речению Парменида из Элеи — мыслителя, писавшего и мыслившего приблизительно в то время, когда в соседней Посейдонии, потом ставшей Пестумом, строился храм Посейдона. В речении этого мыслителя говорится о богине Ἀλήθεια, чье имя мы обычно переводим как «истина». Благодаря строению всего речения сущность богини «Истины» заявляет о себе в каждом предложении, но особенно явно — в ведущем, где ее имя не упоминается. Поэтому прежде чем приступить к разъяснению отдельных фрагментов, мы должны что-то знать о сущности этой богини; с другой стороны, только в результате основательного продумывания всей «поэмы» царствующая здесь ἀλήθεια предстанет в своей изначально запечатленной форме.
Итак, первым делом мы пытаемся осмыслить имя данной богини (Ἀλήθεια), которое означает «несокрытость». Зная, что в греческом языке «истина» — это «ἀλήθεια», мы, конечно, еще ничего не знаем о ее сущности: ведь мало что можно узнать о коне, зная, что на латыни он зовется equus. Однако если мы переводим ἀλήθεια как «несокрытость» и к тому же пере-водим в соответствии с теми указаниями, которые это слово нам дает, мы расстаемся с одним только словесным обозначением и оказываемся в сфере той сущностной связи, которая целиком захватывает наше мышление. Следуя четырем указаниям, которые дает нам имя Ἀλήθεια, переведенное как «несокрытость», мы в какой-то мере узнаем, как греки мыслили начальную сущность истины.
Во-первых, не-сокрытость указывает на сокрытость. Таким образом, сокрытость властно проникает собою начальную сущность истины.
Во-вторых, не-сокрытость указывает на то, что она отвоевана у сокрытости и находится в борении с нею. Начальная сущность истины внутренне противоречива, и остается узнать, что здесь означает это «борение».
В-третьих, в соответствии с уже данными определениями не-сокрытость отсылает в область «противоположностей», в которых находится «истина». Поскольку внутренне противоречивая сущность несокрытости становится явной прежде всего через отношение противоположности, мы должны основательнее осмыслить вопрос о «противоположности», в которой находится истина. В западноевропейском мышлении единственной противоположностью истины принято считать не-истину. «Не-истина» отождествляется с «ложностью», которая, понятая как неправильность, образует вполне ясную и напрашивающуюся противоположность «правильности». Это господствующее противостояние известно нам под именами ἀλήθεια καί ψεΰδος, veritas et falsitas, истина и ложность. Противоположность, упомянутую последней, мы понимаем в ракурсе истолкования правильности и неправильности, но истина как «правильность» неравносущна истине как «несокрытости». В более позднем и прежде всего новоевропейском мышлении противоположностью правильности и неправильности, действительности (Gültigkeit) и недействительности (Ungültigkeit) внутренне противоречивая сущность истины исчерпывается, и потому здесь не выносится никакого решения относительно возможных противоположностей «несокрытости», осмысленной по-гречески.
Поэтому надо спросить, как в начальном мышлении греков выглядит противоположность «несокрытости». Задавшись этим вопросом, мы сталкиваемся с удивительным фактом, суть которого сводится к тому, что противоположностью ἀλήθεια и ἀληθές выступает τò ψεΰδος, которое мы правильно переводим как «ложное». Таким образом, противоположностью несокрытости является не сокрытость, а ложность. Слово ψεΰδος имеет другую основу и напрямую ничего не говорит о сокрытии. Это удивительно, особенно если мы признаем и утверждаем, что начальной сущностью истины является «несокрытость». Ведь в таком случае должна появиться противоположность, соответствующая ей лексически, то есть нечто похожее на «сокрытость». Однако поначалу мы ничего такого не находим, ибо одновременно с появлением слова ἀληθές появляется и его антоним — τò ψεΰδος. Кажется, можно окончательно признать: сущность истины ни в коем случае не определяется в ракурсе противостояния несокрытости и сокрытости. Но, быть может, мы торопимся? Люди ведут себя слишком безрассудно, отдаваясь во власть с давних пор распространившегося и ставшего привычным предубеждения, согласно которому истине может противостоять только ложность, причем при таком противопоставлении нас даже не удивляет, что здесь мы имеем дело с различными наименованиями, которые постоянно, не вдаваясь в раздумья, используем как некую смыслоразличительную формулу во всех наших суждениях и окончательных решениях. Наверное, мы не просто слишком поспешны, когда, принимая во внимание первенствующее положение термина ψεΰδος, утверждаем, что сущность истины все-таки не имеет никакого отношения к несокрытости и сокрытости. Быть может, здесь совсем не надо делать «выводы», а надо просто раскрыть глаза и смотреть по-настоящему. Проявив такую «осмотрительность», мы, конечно же, сразу увидим, что нам ни в коем случае нельзя говорить, будто антоним к слову ἀληθές и вообще слово, от которого образуется эта привативная форма, отсутствует у греков. В слове ἀλήθεια можно разглядеть корень «λαθ», обозначающий «сокрытие». Этот же корень просматривается и в глаголе λανθάνω, что означает «я сокрыт». Аористное причастие λαθών, λαθόν означает «сущий (сущее) сокрытым». Однако пока все это лишь констатация языковых особенностей. Главное в том, что мы видим, какие отношения в самом сущем выражает это слово λανθάνω. Они таковы, что мы вряд ли можем их воспроизвести, и, переводя данное слово по-своему, мы совершенно их затемняем.
В восьмой песне «Одиссеи» (VIII, 93) Гомер так говорит о своем главное герое: ἐλάνθανε δάκρυα λείβων. Прибегая к «правильному немецкому» способу изложения мысли, мы переводим сказанное следующим образом: «Он [Одиссей] прослезился незаметно для присутствующих». Однако если мыслить по-гречески, тогда надо сказать так: «Он [Одиссей] как проливающий слезы оставался в сокрытом». Равным образом известный призыв Эпикура «λάθε βιώσας» мы переводим как «живи незаметно», хотя по-гречески это означает: «Пребывай сокрытым в том, как ты ведешь свою жизнь». Глядя на эти примеры, хочется сказать, что здесь мы сталкиваемся с интересной языковой особенностью: в сравнении с немецким греческий язык выражает себя как-то наоборот. Однако на самом деле здесь нечто большее, чем просто «интересный» языковой факт. Отмеченная особенность имеет решающее значение для постижения начальной сущности истины, греческое именование которой (ἀλήθεια) является однокоренным с глаголом λανθάνω. Только теперь до нас начинает доходить смысл его употребления. Ведь именно тот способ, в соответствии с которым в приведенных примерах глагол λανθάνω становится определяющим, свидетельствует, что то, о чем в этом глаголе говорится («сокрытое»), является первостепенным в постижении сущего и — как особенность самого сущего — становится возможным «предметом» постижения. В случае с плачущим Одиссеем грек думает не о том, что присутствующие на пиру, будучи «субъектами», в своем субъективном поведении не заметили слез Одиссея, а о том, что вокруг таким образом сущего (seiende) мужа расположилась сокрытость, приводящая к тому, что они оказываются отъединенными от него. Речь идет не о восприятии со стороны других, а о наличии сокрытости Одиссея, каковая сокрытость теперь держит присутствующих в стороне от него. Таким образом, постигаемость и уловимость сущего (в данном случае плачущего Одиссея) зависит от того, что именно в данный момент совершатся: сокрытость или несокрытость.
В свете сказанного мы глубже, чем обычно, осмысляем и известные нам глаголы с корнем λαθ-, а именно λανθάνομαι и ἐπιλανθάνομαι. Обычно мы переводим эти слова – и опять правильно — как «забывание». Но что оно означает? Современный человек, все делающий для того, чтобы как можно скорее все позабыть, должен, казалось бы, знать, что это такое — забывание (das Vergessen). Но это этого не знает. Он позабыл сущность забвения (die Vergessenheit), если вообще когда-нибудь думал о ней, то есть мыслью проникал в его сущностную сферу пытаясь из-думать его. Это равнодушие к «забыванию» ни в коей мере нельзя объяснять лишь спешкой и небрежностью, характерными для его способа «жить». То, что здесь происходит, берет начало в сущности самого забвения, то есть в том, что оно само ускользает и скрывается.
Может быть, потому незримое облако забвения, забвения бытия, окутывает весь земной шар и живущее на нем человечество — облако того забвения, в котором забывается не только то или иное сущее, но и само бытие; облако, в которое никогда не сможет ворваться никакой самолет, как бы высоко он ни поднимался. Потому может случиться, что в это же время постижение именно этого забвения, то есть забвения бытия, предстанет как необходимость и станет необходимым и перед лицом этого забвения пробудится припоминающее мышление, которое думает о самом бытии и только о нем, осмысляя его самое в его истине: мысля истину бытия, а не одно лишь сущее в его отношении к бытию, как это делает всякая метафизика. И для этого прежде всего потребуется опыт сущности забвения, то есть опыт того, что скрывается в сущности ἀλήθεια[iii].
Греки постигали забывание как событие сокрытия.
§ 3. Об изменении ἀλήθεια и изменении противоположной ей сущности
(veritas, certitudo, rectitudo, iustitia, истина,
справедливость — λήθη, ψεΰδος, falsum, неправильность, ложность)
а) Различные значения слов ψεΰδος и «ложный».
Скрывающе-раскрывающая сущностная сфера антонима ψεΰδος.
«Илиада» (В 348 и след).
За-ставляющее скрывание: основное значение слова ψεΰδος.
Тò ἀψευδές (раз-утаивающее) и ἀληθές.
«Теогония» Гесиода (233—234). Двусмысленность термина ἀληθές
Для того чтобы прояснить, в контексте каких именно сущностных связей греки воспринимают сущность термина ψεΰδος, было бы неплохо сначала немного подумать о том, что мы понимаем под «ложным» («фальшивым»)[iv].
Во-первых, «ложное» (как «фальшивое») обозначает фальсифицированную вещь (например, в случае с «фальшивыми деньгами» или «фальшивым Рембрандтом»). В данном случае ложно-фальшивое есть неподлинное. Однако «ложным» может быть и какое-нибудь высказывание. Тогда ложное есть неистинное в смысле неправильного. Неправильное высказывание мы обычно понимаем как ошибочное, поскольку неправильность как заблуждение противопоставляется правильности как истине. Тем не менее не всякое ложное высказывание является ошибочным. Когда, например, в суде кто-нибудь дает «ложные показания», сам он нисколько не ошибается. В этом случае он даже и не смеет ошибаться: напротив, он должен очень хорошо знать «истинное положение дел», чтобы иметь возможность лжесвидетельствовать. В данном случае ложное — это не ошибочное, а обманывающее, то есть вводящее в заблуждение. Таким образом, ложное — это, во-первых, неподлинное (неподлинная вещь), и, во-вторых, неправильное (неправильное высказывание); последнее, в свою очередь, может быть как ошибочным, так и вводящим в заблуждение. «Ложным» (в смысле «не тем») мы называем и человека. Когда говорят, что полиция задержала «не того» человека, то в данном случае имеют в виду не нечто фальсифицированное или намеренно вводящее в заблуждение, а просто нечто «не то»: задержанный оказался «не тем» человеком, то есть он не «тождественен» разыскиваемому. Этот «ложный» человек, каковым он в данной ситуации и является (в смысле «не тот», то есть, так сказать, «перепутанный» с другим) вполне может оказаться «неложным» в том смысле, что он не хитрит в своем поведении и не намерен никого обманывать. «Ложными», то есть «лживыми» в смысле хитрости, мы называем и животных. Мы говорим, что все кошки лживы. Кошачье говорит о ложно-лживом, отсюда — «кошачье золото» (Katzengold) и «кошачье серебро» (Katzensilber)[v].
Теперь ясно, что не каждый раз ложное представляет собой одно и то же. Тем не менее мы чувствуем, что различные формы ложного каким-то образом соотнесены с одной и той же основной сущностью, но это «одно и то же» остается неопределенным.
Что касается греческого ψεΰδος, которое мы обычно переводим словом «ложный», то и оно предполагает разнообразные формы, и мы сразу в этом убедимся, рассмотрев, например, значение слова «псевдоним». Это заимствованное слово — сложное и состоит оно из ὄνομα (имя) и ψεΰδος или точнее ψευδές. В дословном переводе оно означает «ложное имя». Так ли это на самом деле? Ни в коем случае. Когда какой-нибудь авантюрист присваивает себе дворянское звание и начинает путешествовать под «ложным именем», мы не можем сказать, что он «взял псевдоним». Хотя это имя и призвано скрывать «истинную» сущность его носителя, нельзя сказать, что оно выступает просто как некое кодовое обозначение, которое употребляется, например, в военном деле: вспомним «операцию Михаил», которая в прошлую войну проводилась на западном фронте. В данном случае это имя просто что-то скрывает, причем нечто такое, что никоим образом не должно быть рассекречено. Что касается имени, которое взял авантюрист, то оно не только скрывает «истинную натуру» его носителя, но и, скрывая ее, позволяет ему предстать в некоем «величии», которое, правда, так же не подобает ему, как и взятое им имя. В отличие от этого «псевдоним» — это не ложное имя, не кодовое обозначение и не такое именование, которое просто вводит в заблуждение. Если он выбран со смыслом, то, скрывая имя автора, он в то же время позволяет ему определенным образом проявить себя, причем не выдать себя за кого-то такого, кем он на самом деле не является (как в случае с авантюристом), но сказать о себе то, что в нем действительно есть. Например, в 1843 г. Кьеркегор выпустил в Копенгагене сочинение под названием «Страх и трепет. Диалектическая лирика Йоханнеса де Силенцио». Выбрав такой псевдоним, этот «господин Молчание» хотел сообщить что-то существенное о себе и своем творчестве. «Псевдонимы» к двум другим его работам, а именно к «Философским крохам», вышедшим в 1844 г., и к «Введению в христианство», появившемуся в 1850 г., принципиально связаны между собой. Первое сочинение было опубликовано под псевдонимом Йоханнес Климакус, второе — под псевдонимом Анти-Климакус.
Итак, мы не сумеем точно выразить сущность термина ψεΰδος, проявляющуюся в «псевдониме», если переведем это слово как «ложный». Мы видим, что здесь нечто скрывается, но скрывается так, что одновременно раскрывается нечто находящееся на заднем плане, причем раскрывается косвенным образом, силами того же заднего плана, тогда как «ложное имя» авантюриста не просто неправильно, но нечто утаивает, акцентируя внимание на очень явном, находящемся всецело на переднем плане и «величественно выступающем».
Попав под воздействие сущностных связей, выявляемых греческим ψεΰδος, мы «вполне естественно» рассуждали об «укрывании» и «упрятывании», а также о «возможности появления». Ψεΰδος принадлежит к сущностной сфере укрывания, то есть к разновидности сокрытия. Однако укрывание, присутствующее в ψεΰδος, одновременно представляет собой снятие покрова, показание и принесение-к-появлению (Zum-erscheinen-bringen). Дадим слово самим грекам, чтобы увидеть, в какой мере ψεΰδος принадлежит к сущностной сфере сокрытия и несокрытости. Рассмотрим два «места»: из Гомера и Гесиода. Эти «места» — не просто «цитаты», убедительная сила которых растет по мере их накопления. В данном случае речь идет не об «аргументации», не о «доказывании» (Beweisen), а о казании (Weisen), которое дает возможность увидеть. Решающее значение имеет не количество отрывков, при перечислении которых чаще всего все они остаются неясными, и мы ждем, что какое-нибудь темное место вдруг прольет свет на все прочие, и тьма, окутавшая всё их собрание, наконец-то рассеется. Решающей остается прозрачность одного единственного места, раскрывающего существенное. Правда, когда за переплетением различных отношений надо выявить нечто единое, ссылка не несколько таких мест необходима. Но теперь нам надо понять лишь одно: ψεΰδος принадлежит сфере появления, принадлежит самой возможности появления и несокрытости.
Упомянутый отрывок из Гомера находится во второй песне «Илиады» (В 348 и след.). Здесь Нестор говорит, что, скорей всего, греки не отправятся домой из-под стен Трои:
...πρίν καί Διός αἰγιόχοιο
γνώμεναι εἴ τε ψεΰδος ὑπόσχεσις, εἴ τε καί οὐκί.
Иоганн Фосс переводит:
«Доколе не станет нам ведомо,
Зевса, эгиду держащего, верно ли обетование».
Здесь речь идет о Зевсе и вспоминается о том, что в день, когда греки сели в Аргосе на корабли, чтобы плыть в Трою, Зевс:
ἀστράπτων ἐπιδέξιʼ, ἐναίσιμα σήματα φαίνων.
Фосс переводит:
«Вправо метнул свою молнию — знак, предвещающий доброе».
В более дословном переводе данный стих означает: «Зевс, мечущий молнию вправо, дающий возможность появиться добрым знакам». В приведенном отрывке эти знаки называются ὑπόσχεσις. В наилучшем варианте немецкого перевода следовало бы использовать наше слово «оговорка» (Vorbehalt), однако через римское слово reservatio оно слишком упрочилось в своей смысловой тональности. Ὑπόσχεσις подразумевает выставление на вид и в то же время удерживание, подразумевает показывание, которое, показывая что-либо, одновременно удерживает его, то есть не показывает. Сущность знака (σήμα) заключается в том, что он сам появляется (показывается) и в своем появлении одновременно указывает на что-то другое: появляясь как таковой, он дает возможность появиться чему-то другому. Молнии, сверкающие вправо, — залог удачи. Летя вправо, они дают возможность предположить, что судьба будет благосклонна к задуманному, но в то же время, будучи знаками, не дают увидеть, скрывают картину того, как на самом деле будут развиваться события во время осады Трои. Только по слову Нестора можно узнать, что представляет собой тот намек на удачу, который дает Зевс: ψεΰδος ли он или нет. Когда можно сказать, что он ψεΰδος? В том случае, если летящие вправо молнии, будучи знаками благоприятного развития событий, на самом деле скрывают оговоренную (vorbehaltene) для греков и, таким образом, уже предначертанную неудачу. Гомер просто говорит, что ψεΰδος касается Зевса, σήματα φαίνων, то есть Зевса, показывающего знаки. В этих знаках он постоянно позволяет чему-то явиться. Он показывает несокрытое. Но одновременно знак нечто скрывает, причем именно как знак, который постоянно лишь указывает, отсылает к чему-то, но не предъявляет того, на что указывает, не являет его так, как являет самого себя, то есть себя как указующее. Такой знак всякий раз выступает как показывающее сокрытие. Вопрос, однако, заключается в том, как именно оно себя ведет: только ли скрывает (не дает заглянуть в судьбу) или является таким показанием, которое в совершаемом им сокрытии как бы застилает то, что приближается. В последнем случае наличие являющего показывания и сам показывающий знак есть ψεΰδος. Сокрытие как бы заставляет (застилает). Основное значение слова ψεΰδος есть за-ставление (verstellen) в смысле застилания. Нам надо понять это слово в буквальном смысле, который нам еще известен. В данном случае это «за-ставление» — не притворство, не обманчивые манеры человека, то есть, говоря современным языком, не поведение «субъекта», а «объективное» событие: такое событие, которое совершается в самом сущем. Мы говорим: дом, расположенный по соседству, за-ставляет вид на горы. За-ставление — это, в первую очередь, сокрытие в смысле укрывания. Например, мы не хотим, чтобы эта дверь была видна в комнате и «заставляем» ее шкафом. Точно так же какой-нибудь появляющийся знак, жест, имя или слово могут что-то за-ставлять. Однако поставленный перед дверью шкаф не только пред-ставляет «себя» именно как шкаф и не только за-ставляет дверь, будучи «при-ставленным» к имеющемуся проему в стене, то есть скрывая его: шкаф за-ставляет проем, как бы утверждая, что, дескать, двери в этой стене нет. Он заставляет дверь и таким образом как бы вы-ставляет на вид, стоя перед дверью, «действительное» состояние стены. В нашем языке есть прекрасное слово «утаивать» (verhehlen), исконный смысл которого — «сокрытие», «закутывание». «Утаивание» означает сокрытие и сокрытость; мы говорим, что что-то надо делать «без утайки», то есть не делая из совершаемого никакой «тайны», ничего сокрытого. Однокоренным слову «утаивать» (verhehlen) является слово «пещера» (Höhle): скрытое пристанище, потаенное место, которое само может что-то хранить и скрывать. Раньше наш язык, теперь все больше и больше подвергающейся порче, даже знал слово «разутаивать» (enthehlen), выносить что-либо из потаенного, то есть из со-крытости: рас-скрывать (ent-bergen); ἀ-λήθεια: рас-скрытие. Уже много лет я употребляю слово «рас-скрывать» как антоним к слову «скрывать». Обычный просвещенный читатель газет, увидев такое новшество, сразу решит, что тут какое-то вычурное искажение языка, «измышляемое» «философами» ради «вворачивания» своего «абстрактного» мышления.
Итак, ψεΰδος есть за-ставляющее сокрытие, «утаивание» в более тесном смысле слова. Теперь сущностная связь «ложного» как противоположности истинному и сокрытия как противоположности раскрытию, представляющему собой событие несокрытости, становится ясной. В этом отношении противоположность между ἀληθές и ψεΰδος уже нисколько не удивляет. Ψευδές, взятое как за-ставляющее сокрытие, то есть как утаивание, позволяет с помощью альфы образовать соответствующую привативную форму, а именно ἀ-ψευδές. то есть не-утаивающее, раз-утаивающее. Таким образом, сущность термина ἀ-ψευδές должна определяться из ἀληθές как «несокрытого». Свидетельство этому дает Гесиод. В своей «Теогонии» (стихи 233—234) он рассказывает о том, что Понт (Πόντος) родил старшего, самого достойного из своих сыновей (πρεσβύτατον παίδων): Нерея. Понт родил Νηρέα δή ἀψευδέα καί ἀληθέα, то есть Нерея не-заставляющего, ничего не утаивающего καί ἀληθέα (и не-скрывающего). В данном случае союз καί не просто присоединяет ἀληθής κ ἀψευδής и к тому же ἀληθής — это не просто повторение ἀψευδής (в том смысле, что тут дважды говорится одно и то же). Здесь имеется в виду, что не-утаивающее основывается на не-скрывающем. Нерей неложен по причине своей связи с несокрытостью. Ψεΰδος обретает свою сущность в сфере сокрытия. Не-утаивающее есть не-скрывающее: ἀληθές.
Однако мы видим — и тут возникает опасение, к которому мы не можем отнестись слишком легко — что τò ἀληθές означает «не-сокрытое» и ни в коей мере не означает «не-скрывающее», если придерживаться буквального смысла этого слова. Тем не менее именно так нам и надо понимать ἀληθές. Греки знают λόγος ἀληθής, то есть «истинное высказывание», не скрывающее, но раскрывающее высказывание. Λόγος ἀληθής означает не «несокрытое высказывание» (как можно было бы решить, придерживаясь буквального смысла фразы), а «раскрывающее», «истинное» — то, которое как таковое вполне может быть сокрытым и которому вовсе на надо быть несокрытым. То же самое тем более верно по отношению к ἀλήθεια. Она означает «несокрытость», несокрытое и в то же время (по отношению к не-скрывающему, не-утаивающему) — «неутаенность», раскрытие.
Однако с давних пор мышление, особенно новоевропейское, не видит здесь никакого затруднения. Считается, что все просто. Ἀληθές в значении «несокрытого» касается «объектов», которые появляются перед человеком, а ἀληθές в значении «не-скрывающего» касается суждения об «объектах» и их постижения, то есть во втором случае имеется в виду поведение «субъекта» по отношению к объектам. Выглядит убедительно, но такое решение основывается на предпосылке, согласно которой в сфере существования ἀλήθεια и ἀληθές, то есть для греков, наличествует нечто, похожее на различение «объекта» и «субъекта», и, стало быть, здесь имеют место так называемые субъектно-объектные отношения. Однако все дело в том, что именно сущностная сфера ἀλήθεια делает невозможным раскрытие чего-то похожего на отношение «субъект-объект». Поэтому мы просто всё запутываем и ставим с ног на голову, когда стремимся уяснить смысловую двоякость ἀληθές и ἀλήθεια с помощью различения субъекта и объекта.
Тем не менее ἀληθές двузначно, причем эта двузначность почти невыносима для греческого уха, так как ἀληθές означает именно несокрытое, которое, однако, сохраняет свое отличие от «не-скрывающего». Но если одно отличается от другого, то это вовсе не означает, что они должны быть разделены: вполне возможно, что они-то как раз и образуют единство. В таком случае единое, остающееся таким образом двояким, двузначно. Несокрытому принадлежит раскрытие. Раскрывающее соотнесено с раскрытым и несокрытым. Итак, ἀληθές и соответствующая ему ἀλήθεια двузначны. Но каким образом эта двузначность появляется? Если она вообще существует, то в чем ее причина и основа? Быть может, здесь только видимость двузначности? Пока мы выяснили только одно: если ἀληθές двузначно, поскольку является раскрывающим и означает «раскрытое», тогда неправомерно утверждать, что оно означает «несокрытое». Если вообще раскрытое как таковое есть то, что оно есть, лишь в ракурсе раскрывающего, тогда даже «раскрывающий» смысл является исконным смыслом слова ἀληθές. Однако поскольку ἀληθές присуще ἔπος и λέγειν, кажется, что ἀλήθεια исконно вообще является особенностью слова, сказывания, высказывания. Тем не менее для греков еще в эпоху Аристотеля ἀλήθεια являлась особенностью сущего, а не только прислушивания к сущему и высказывания о нем. Но что в таком случае есть исконно раскрывающее (ἀληθές): сказывание (λέγειν), сущее (ὄν) или ни то и ни другое?
Прежде чем ответить на этот вопрос, обращенный к самому средоточию сущностной сферы ἀλήθεια, мы должны выяснить, насколько она пространна. Это означает, что нам надо еще глубже вникнуть в сущность раскрытия. Ложное в смысле ψεΰδος как за-ставления есть сокрытие. Но каждое ли сокрытие является за-ставлением? Каждая ли сокрытость в себе уже «ложность»? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо, чтобы сфера сокрытия стала нам еще ближе.
Однако прежде чем еще глубже заглянуть в нее, надо сделать еще одно разъяснение, от которого мы до сих пор воздерживались, потому что оно становится понятным только после осмысления сущности ψεΰδος так, как ее понимали греки. Необходимо прояснить то, что обозначается словом «ложный», и кратко разъяснить, что значит первенство ложного в сущностном определении «не-истинного».
ПОВТОРЕНИЕ
1) Так называемый «правильный» перевод слова ψεΰδος словом «ложный».
Смысловая многозначность «ложного» и ψεΰδος.
За-ставление и утаивание, свойственные ψεΰδος в сущностной сфере
раскрытия и снятия покрова.
Гомер и Гесиод
Стремясь объяснить сущность богини Ἀλήθεια, мы спрашиваем о том, что является противоположностью «истине». Каждый знает эту противоположность: истине противостоит «ложность». Она, как говорится, столь «естественна», что мы встречаем ее повсюду и непрестанно движемся в ней. Поэтому не надо никакой «философии», чтобы выяснить суть противоположности между «истинным» и «ложным». Уже древние греки знали противоположность τò ἀληθές — τò ψεΰδος. Мы переводим правильно: «истинное» и «ложное». Перевод «правилен» в том смысле, что буквально τò ἀληθές καὶ τò ψεΰδος не означает «хорошее и плохое», для которого в греческом языке есть τò ἀγαθòν καὶ τò κακόν. Тем не менее греческое τò ἀληθές означает не «истинное», а несокрытое, а вот антоним к слову τò ἀληθές, а именно ψεΰδος, в своем корне не содержит ничего похожего на «сокрытость». Быть может, этого следовало ожидать «по существу» — именно потому, что издавна у греков τò ψεΰδος решительно и однозначно (и потому везде) выступает как противоположность ἀληθές, однако — и в данном случае это самое примечательное — от ψεΰδος, которое хотя и явно противостоит ἀληθές, несокрытому, вовсе не ожидают связи со сферой сокрытия и не-сокрытия. Почему? Во-первых, потому, что уже давно ἀληθές вообще не мыслится как «несокрытое», то есть потому, что несокрытость больше не постигается и не может постигаться. Ἀληθές понимают как verum и certum, то есть как «истинное» и «достоверное», полагая, что все, что при этом «понимается», как бы само собой является «истинным» и «достоверным». Во-вторых, о поистине тревожной загадке противопоставления ἀληθές и ψεΰδος совсем не задумываются потому, что опять-таки с давних пор привыкли понимать ψεΰδος как «ложное», хотя, даже слегка поразмыслив, мы видим, что все, что мы так решительно и «массированно» называем «ложным», заключает в себе своеобразное сущностное богатство.
В одном случае ложное — это фальсифицированное, то есть неподлинное («ложные» (в смысле «фальшивые») деньги, «ложный Рембрандт»), в другом ложным, то есть неправильным, может быть какое-нибудь высказывание, которое мы также называем ошибочным. Однако, например, «ложное показание», «данное» в суде, не является ошибочным. Ведь тот, кто в такой ситуации высказывает «ложное», как раз не должен ошибаться в истинном положении вещей, чтобы иметь возможность представить их в ложном свете. В данном случае под «ложным показанием» подразумевается не ошибочное показание, а вводящее в заблуждение. «Ложным» можно назвать и человека. Когда мы говорим, что полиция схватила «ложного» (в смысле «другого») человека, мы имеем в виду, что она поймала «не того». По ошибке арестованный «ложный» человек вполне может быть «неложным» в том смысле, что он не собирается хитрить и всюду выдавать себя за другого. «Ложными» (в смысле «лживыми» в своем хитром поведении) мы называем и животных. Все кошки, так сказать, ложны, будучи лживыми. Кошачье — это «вообще» ложное, и потому, наверное, мы говорим о «кошачьем золоте» и «кошачьем серебре».
Подобно нашему «ложному» греческое слово ψεΰδος тоже многозначно. Это станет ясно, если мы попытаемся прояснить значение заимствованного слова «псевдоним». В буквальном переводе ψεΰδος-ὄνομα есть «ложное имя», однако на самом деле псевдоним ни в коей мере таковым не является, ибо имеет обоснованную связь с тем, кто его носит. «Ложное имя» носит и какой-нибудь авантюрист, взявший дворянский титул и выдающий себя за «такого-то». Это имя хотя и призвано к тому, чтобы скрывать истинную природу его носителя, но тоже не является просто кодовым обозначением, похожим на те, которые, например, применяются при проведении военных операций («операция Михаил») или в разведке. Имя, взятое авантюристом, хотя и скрывает его, но в то же время призвано к тому, чтобы сообщить его носителю некую благородную «величественность» и показать, что его «манеры» соответствуют его титулу. Правда, то, что появляется благодаря ложному имени, скрывающему истинное положение вещей, а именно «величественность», в данном случае оказывается лишь «видимостью». В отличие от имени, взятого авантюристом, подлинный «псевдоним» сообщает о его носителе что-то «истинное». «Псевдоним» тоже скрывает, но, скрывая, силами второго плана указывает на потаенную сущность автора и его писательскую задачу. Настоящий псевдоним не должен делать автора просто неузнаваемым: он должен заострять внимание на его скрытой сущности. Порой псевдоним говорит об авторе даже больше, чем его «правильное» имя. Природу псевдонима и вместе с тем сущность слова ψεΰδος помогают понять псевдонимы Кьеркегора («Йоханнес де Силенцио», «Йоханнес Климакус» и «Антиклимакус»). В слове ψεΰδος царствует сокрытие, которое одновременно снимает покров. «Ложное» («фальшивое») золото выглядит как настоящее, показывает себя как настоящее и, показывая себя таковым, то есть именно через это, скрывает то, чем оно на самом деле является: не-золотом. Сущность слова ψεΰδος определяется в ракурсе сокрытия, снятия покрова и возможности появления в каком-то виде.
Нам могут возразить, сказав, что такое понимание слова ψεΰδος все еще остается нашей «интерпретацией». Что ж, тогда надо узнать, как его понимали греки, и тут нам помогут два фрагмента из ранней греческой поэзии: один из «Илиады» Гомера, а другой из «Теогонии» Гесиода. В отрывке из «Илиады» (В, 348 и след.) речь идет о том, как воспринимать знамение Зевса, которое он дает, меча вправо свою молнию: можем ли мы сказать, что оно ложно (ψεΰδος) или нет, раскрывает ли оно «истинную» судьбу, уготованную грекам, или скрывает ее? Предпосылкой такой постановки вопроса является тот факт, что Зевс вообще нечто являет грекам. Гомер называет его φαίνων, то есть «являющим». Но «являть» значит все-таки снимать какой-то покров. Что же в таком случае он скрывает? Зевс действительно нечто являет, но являет нечто такое, что, показывая себя, одновременно лишь указывает, то есть не снимает покров полностью, но в то же время прикрывает. Таким образом Зевс показывает знаки: σήματα. Поэтому в данном отрывке Гомер называет его σήματα φαίνων, то есть «Зевс, являющий (показывающий) знаки». «Знак» есть нечто такое, что, появляясь на свой лад в своем показывании, тем самым что-то являет, причем так, что это появляющееся он не отсылает к чему-то совершенно ясному (в чем выступает сам знак), но как раз удерживает его, то есть прикрывает. Именно это само являющее снятие покрова, которое, снова этот покров удерживая, что-то прикрывает, и есть показывание, казание. Только там, где совершается появление и тем самым раскрытие, бытийствует пространство для возможности ψεΰδος, то есть того показывания, которое одновременно укрывает и удерживает. Сущность совершающегося ψεΰδος заключается в скрывающем вы-ставлении-напоказ (Zur-Schau-stellen), то есть в том, что мы называем за-ставлением (застиланием).
Это «за-ставление» нам надо понимать как событие и определенное положение вещей в сущем. Дом, расположенный по соседству, «за-ставляет» показывающиеся горы; шкаф, поставленный перед дверью, «за-ставляет» на этом месте стену и пред-ставляет ее так, как будто в ней нет дверного проема. Этот шкаф, во-первых, совершает за-ставление в том смысле, что закрывает собой проем в стене, и во-вторых, он делает это таким образом, что, закрывая дверной проем, создает видимость целостной стены и пред-ставляет ее как сплошную. За-ставление — это утаивание (Verhehlen). Это старое немецкое слово восходит к глаголу «таить» (hehlen) в смысле «скрывать». «Утаивание» есть сокрытие. Говоря о «за-ставлении» и «утаивании», мы почти всегда имеем в виду (причем в «негативном» смысле) человеческое поведение, которое понимаем как «субъективное» в отличие от «объективных» событий. «За-ставление» мы понимаем как «притворство», а это последнее, поскольку оно имеет отношение к другим людям, — как «обман». «Утаивание» тоже употребляется в субъективном смысле: не таиться, ни в чем не притворяться, то есть не выставлять перед собой что-либо в качестве завесы, не за-ставлять чем-либо что-либо — действовать «без утайки», не скрывать, не прибегать к затемняющим ситуацию отговоркам (при каком-либо действии или сообщении). Изначально же под «утаиванием» подразумевается всякое «сокрытие»; раньше в нашем языке даже существовало теперь уже исчезнувшее слово «разутаивать» (enthehlen) - «брать из сокрытости». Я уже много лет употребляю в своих лекциях глагол «рас- скрывать». Если когда-то мы снова сможем постичь истинный смысл слов «рас-скрытие» и «несокрытость» (ἀλήθενα), мы обретем и утраченное слово «раз-утаивать», и оно снова станет нашим достоянием. Кроме того, надо отметить, что глагол «утаивать» является однокоренным существительному «пещера» (Höhle), которая, как известно, нечто скрывает, оставаясь при этом несокрытой.
Итак, рассмотрев свидетельство, данное Гомером, и узнав, что τò ψεΰδος по своей сущности относится к сфере у-таивания (Ver-hehlen), то есть одновременно сокрытия и снятия покрова, мы больше нисколько не удивляемся тому, что слову ἀληθές греки противопоставляют ψεΰδος, тем самым связывая эти различные в своем употреблении слова. Греки осмысляют ψεΰδος как сокрытие, причем надо иметь в виду, что это слово употребляется по отношению к «знаку», например, к молнии, и, следовательно, оно обозначает не только вид человеческого поведения. Нередко оно употребляется по отношению к ἔπος, μΰθος и λέγειν, к слову и сказыванию, но и слово изначально греки воспринимали не только как структуру, порожденную «человеческим субъектом». Поскольку они усматривают в ψεΰδος событийное сокрытие, ψεΰδος, то есть утаивающее, становится исходной точкой в образовании антонима к нему, который обозначает «не-ложное» и, следовательно, «истинное», но который не есть ἀληθές — слово, часто употребляемое для обозначения «истинного». Противоположностью «утаиванию» (Verhehlen) является «раз-утаивание» (Ent-hehlen). Приставка здесь соответствует греческой альфе; словам ψεΰδος и ψευδές противостоит ἀψευδές, не-утаивающее (Nicht-Verhehlende). Простое и ясное разъяснение этого слова и его ведущего значения можно найти в «Теогонии» Гесиода (стих 233). В упомянутом стихе о Нерее, старшем и самом достойном сыне морского бога Понта, сказано, что он ἀψευδέα καὶ ἀληθέα — «не за-ставляющий». В этой фразе союз καὶ не столько соединительный, сколько пояснительный («потому что»). Нерей — «не за-ставляющий», потому что он есть ἀληθής («не-скрывающий»). В данном случае ψευδής определяется в ракурсе «-ληθής». В «дословном» переводе τò ἀληθές прежде всего означает «несокрытое», «раскрытое». Несокрытому, раскрытому, например, каменной глыбе не надо быть «раскрывающим»: более того, в этом случае несокрытое и раскрытое (каменная глыба) вообще никогда не может быть «раскрывающим». Напротив, речь и слушание, внимание человека есть «раскрывающее».
«Раскрытое» и «раскрывающее» греки, однако, называют одним и тем же словом ἀληθές, что в буквальном переводе означает «несокрытое». Нам наверняка кажется, что такой перевод (τò ἀληθές = несокрытое) — только «дословный». Теперь же становится ясно: в своем двояком значении «раскрытого» и «раскрывающего» τò ἀληθές двузначно. Эта двузначность особенно хорошо просматривается окольным путем: через ψεΰδος и его антоним ἀψευδές. Мы также видим, что здесь имеют место некие таинственные связи. Для того чтобы постичь сущность этой двузначности и прежде всего узнать ее причину, сначала надо основательно исследовать всю сущностную сферу не-сокрытости и раскрытия. Это значит, что сначала мы должны глубже осмыслить сущность сокрытия и сокрытости. Сокрытие есть ψεΰδος в смысле за-ставления. Но всякое ли сокрытие с необходимостью является за-ставлением? Всякая ли сокрытость в себе уже есть ψεΰδος, то есть «ложность»? Как вообще обстоят дела с сокрытием и его различными способами?
b) Ненемецкое слово «ложный» (falsch). Falsum, fallo, σφάλλω.
Преобладание римского «приведения-к-падению» (Zu-Fall-bringen)
в романизации эллинства, осуществляемой через imperium (повеление)
как сущностную основу iustumʼa.
Пере-вод ψεΰδος в римско-имперскую сферу приведения-к-падению.
Собственно бытийное событие в истории:
наступление романизации в греко-римской области истории
и новоевропейское восприятие эллинства «римскими» глазами
Итак, «ложное» (falsch) — что мы можем сказать об этом слове? Оно восходит к римскому «falsum». Мы хорошо сделаем, если, наконец, примем к сведению и не позабудем, что братья Гримм, знавшие это слово, с оттенком досады заметили по его поводу: «Ложный, falsus — ненемецкое слово, на которое еще нет никакого намека у Ульфилы» (Deutsches Wörterbuch, III, 1291). «Ненемецкое слово» — тот, кто не слишком труслив для этого, устрашится такой констатации и уже никогда не сможет «отделаться» от этого испуга. С раннего христианского Средневековья слово «ложный» («фальшивый») через римское «falsum» приходит в немецкий язык.
Основой римского слова falsum (fallo) является «fall» (падение), родственный греческому σφάλλω, что означает «приводить к падению», «валить», «делать шатким». Но это греческое слово нигде и никогда не становится собственным, подлинным антонимом, противостоящим слову ἀληθές. Мы намеренно говорим «подлинным», потому что иногда «правильно» переводим σφάλλω как «обманывать», тогда как, если мыслить по-гречески, этот глагол означает «делать шатким», «колебать», «постоянно и всюду ввергать в заблуждение». К такому колебанию и падению человек, находящийся посреди являющегося ему сущего, приходит только тогда, когда на его пути появляется нечто такое, что за-ставляет от него сущее, причем так, что он не может знать, с чем имеет дело. Нечто должно удерживаться перед человеком, выставляться перед ним и тем самым, будучи при-ставленным к чему-либо как некое иное, за-ставлять (в смысле «закрывать») его от человека, дабы тот, «впав» в это за-ставленное и именно так перед ним пред-ставленное, «попал впросак» по отношению к нему и, наконец, пал. Приведение-к-падению (Zu-Fall-bringen) в смысле введения в заблуждения возможно только в том случае, если совершается поставление-перед (Davor-stellen), за-ставление и сокрытие. В соответствии с имеющейся здесь смысловой двузначностью σφάλλω связано с «выставлением чего-то»; если мыслить по-гречески, то это означает: поставить что-либо в несокрытое и дать возможность стоящему в нем появиться как пребывающему, то есть как присутствующему. Σφάλλω как бы противостоит такому выставлению, поскольку оно не позволяет присутствующему «стоять» в своем вот-здесь-стоянии, но, напротив, приводит его к падению, вы-ставляя вместо него что-то другое и пред-ставляя это выставленное как стоящее, как нечто такое, что здесь стояло до падения. Τò ἀσφαλές означает не-падающее (Un-fallende), означает то, что остается стоять в своем постоянном стоянии и пребывании, то есть, если мыслить по-гречески, остается в присутствовании в несокрытом. Τò ἀσφαλές никогда не является «достоверным» и «надежным» в смысле новоевропейской certitudo.
Таким образом, поскольку приведение-к-падению во всех своих значениях является лишь сущностным следствием, заявляющим о себе в сфере за-ставления и сокрытия, а оно, в свою очередь, составляет сущность греческого ψεΰδος, все, что связано с «падением» и приведением-к-падению, у греков никогда не выступает как изначальная противоположность «несокрытости» (ἀληθές), равновеликая ей по смыслу.
Но почему в римском сознании falsum, «приведение-к-падению», столь значимо? Какой опыт является определяющим в его оценке и заставляет оценивать его так высоко, что в итоге именно его сущность кладется в основу противостояния тому, что греки постигают как ἀληθές, то есть как «раскрывающее» и «несокрытое»?
Определяющей в раскрытии римского falsum является сфера «властного повеления» (imperium), имперского владычества (imperiale). Здесь мы понимаем эти слова в их строго изначальном смысле. «Imperium» означает «повеление» (Befehl), хотя здесь мы понимаем слово «повеление» (Befehl) в его более позднем, а именно римско-романском значении. Изначально оно означает «скрывать» (причем букву h надо писать после буквы l, то есть befelh): например, предавать мертвых земле или огню (в смысле «скрывать» (befehlen) их там, то есть доверять сокрытию). Изначальное немецкое значение глагола «befehlen» можно увидеть и в таком призыве: «Вверь (предай) (befiehl) пути свои Господу» (то есть сокрой их в нем, предай их его покровительству). Это значение еще сохраняется в нашем глаголе «поручать», «вручать» (empfehlen). Лютер всегда и везде вместо «поручать» (empfehlen) еще употребляет глагол «вверять» (befehlen) — commendare. На пути через французское «вверять» превращается в «commandieren», точнее говоря в римское imperare—im-parare (= обустраивать), то есть заранее предпринимать какие-то меры (prae-cipere), заранее нечто занимать и в результате иметь это занятое как сферу своих властных полномочий (Gebiet), где можно повелевать (gebieten). Imperium — это сфера повелевания (Gebiet), основывающаяся на приказании (Gebot), а находящиеся в этой сфере оказываются подвластными (botmäßig). Imperium — это поручающее повеление в смысле приказания. Понятое таким образом, оно является сущностной основой господства, а не только его следствием и тем более не одной лишь формой его осуществления. В этом смысле ветхозаветный Бог — это Бог «повелевающий»: «ты должен», «ты не должен» — таковы его слова. Это долженствование начертано на скрижалях Закона. У греков никакой бог не является повелевающим: он только показывает, указывает. Римское же «numen», характеризующее римских богов, напротив, означает «приказ» и «волю» и отличается повелеванием. Строго говоря, «нуминозное» в смысле божественного веления никогда не относится к сущности греческих богов, то есть богов, бытийствующих в сфере ἀλήθεια. В сущностную сферу «повеления» входит римское «право», ius. Это слово связано с jubeo, что означает «приказывать», заставлять делать через приказание и через него же определять какой-либо образ действий. Повеление есть сущностная основа господства и по-римски понятого «быть правым» и «иметь право», iustum'a. Соответственно iustitia в своей основе полностью отличается от δίκη, которая бытийствует из ἀλήθεια.
К повелеванию как сущностной основе господства принадлежит и над-бытие как верховенство. Оно возможно только как постоянное возвышение над другими, которые остаются внизу. С другой стороны, в таком возвышении заключается постоянная возможность обозревать все вокруг. Мы говорим: нечто «обозревать», «окидывать взглядом», то есть «господствовать» над чем-либо. К этому обзору, которому сопутствует возвышение, принадлежит непрестанное «нахождение-в-засаде» (auf-der-Lauer-liegen). Такова форма того действования, которое всё обозревает, но еще ничего не предпринимает: по-римски это actio actus'a. Возвышающееся надо всем обозревание — это то господствующее «зрение», которое находит свое выражение в часто приводимом высказывании Цезаря: veni, vidi, vici — «пришел, обозрел все вокруг и победил». Победа — это просто следствие совершенного Цезарем обозревания и зрения, имеющего характер actio. Сущность того, что именуется словом imperium, заключается в акте (actus) постоянного «действия», «акции». Imperiale actio, характерная для постоянного возвышения над другими, предполагает, что если другие вдруг окажутся на высоте, близкой высоте данного повеления или даже на той же самой высоте, они будут низринуты: по-римски fallere (причастие: falsum). Приведение-к-падению с необходимостью входит в сферу имперского. Оно может совершиться в «прямом» нападении и низвержении, но кого-то можно заставить упасть и по-другому: можно подкрасться к нему сзади, затем обойти его и «подставить ногу». Тогда «приведение-к-падению» будет выглядеть как захождение-сзади в смысле обмана, как некий «трюк», и не случайно это слово приходит к нам из «английского». Если посмотреть со стороны, такой «тыловой» обман, представляет собой неторопливое, сообразованное с обстоятельствами и потому опосредованное приведение-к-падению — в отличие от прямого свержения. В первом случае приведенный-к-падению не уничтожается, а в каком-то смысле восстанавливается, но уже в пределах, намеченных тем, кто осуществляет господство. Эта «разметка» по-римски называется pango, и отсюда происходит слово рах (мир). Этот мир, взятый в его «имперском» смысле, есть прочно установленное состояние того, кто был приведен к падению. По сути дела, приведение-к-падению, осуществленное как хитрое следование сзади и последующий обход, не является опосредованным и производным, но представляет собой собственно имперскую actio. Настоящая, «великая» черта «имперского» проявляется не в ведении войны, а в fallere совершающегося из-за спины обхода и в принятии-на-службу ради осуществления еще большего господства. Борьба, в результате которой Рим, в отличие от других итальянских городов и племен, сумел укрепить и расширить свою территорию, всюду недвусмысленно выражалась в том, что он как бы обходил противника и, заключая соответствующие договора, включал в свои владения соседние племена. В римском fallere, то есть приведении-к-падению как хитрому следованию сзади, заключается «обман»; falsum есть коварно обманывающее: «ложное».
Что происходит, когда греческое ψεΰδος понимается как римское falsum? Как утаивающее и, следовательно, также «обманывающее», оно отныне постигается и истолковывается не в ракурсе сокрытия, а в контексте введения в заблуждение. В процессе перевода в римское falsum оно пере-водится и перемещается в римско-имперскую сферу приведения-к-падению. Ψεΰδος, за-ставление и сокрытие, превращается в то, что приводит к падению, превращается в falsum. Отсюда становится ясно: с момента своего сущностного начала римское познание и мышление, устроение и расширение, созидание и действие никогда не совершают своего движения в сфере ἀλήθεια и ψεΰδος. Историография уже давно показала, что римляне многое и по-разному заимствовали у греков и, перенося заимствованное на свою почву, переиначивали его. Тем не менее однажды нам надо поразмыслить о том, в каких областях и каком масштабе совершалась эта романизация греческого. Переистолкование слова ψεΰδος, то есть усвоение «сокрытия» как «приведения-к-падению» идет так далеко, что латинский язык перенимает конструкцию и употребление греческого λανθάνω («я сокрыт»). Этому переистолковывающему заимствованию благоприятствует родство греческого и латинского языков, которые относятся к индо-германским языкам. Когда грек говорит λανθάνει ἥκων, в правильном немецком переводе это звучит как «он приходит незамеченным», но по-гречески мыслится как «он остается сокрытым как приходящий». Римский историограф Ливий пишет: fallit hostis incedens. По-немецки это означает: «Враг приближается незамеченным»; по-римски: «Враг обманывает как приближающийся», однако по существу данное предложение означает: «Будучи приближающимся, враг приводит к падению». Звучит нелепо, и какой-то смысл появляется только в том случае, если fallere осмысляется как приведение-к-падению, которое, в свою очередь, мыслится как коварное следование сзади, каковое понимается как обман, который, наконец, мыслится как утаивание. Римляне усваивают греческое ψεΰδος, не постигая в нем определяющей роли сокрытия. Равным образом, когда Ливий говорит о человеке, qui natus moriensque fefelit, то по-немецки это звучит как «который родился и умер неизвестным». В мышлении и речи римлянина это означает: «Который привел людей к падению и ввел их в заблуждение при своем рождении и умирании». По-гречески этот оборот означает: «Во время его рождения и смерти вокруг него царила сокрытость». Рождаясь, человек не может «подставить ногу» своим ближним (как это должно было бы быть согласно римскому пониманию), не может заставить их упасть или хотя бы обмануть, но зато он может пребывать в сокрытости. Римское fefelit означает иную сущностную сферу, отличную от той, на которую указывает греческое ἐλάνθανε. Римское falsum чуждо греческому ψεΰδος.
Однако господство римского и преобразование в него греческого ни в коей мере не ограничивается разрозненными попытками как-то сообразовать греческий мир с римским или принятием отдельных установок и «способов выражения», характерных для греков. Кроме того, романизация эллинства римлянами в итоге распространяется не только на все воспринятое ими от греков. Решающим остается тот факт, что в сущностных моментах истории взаимоотношений греков и римлян романизация властно проявляет себя как изменение существа истины и бытия. Характерная особенность такого изменения заключается в том, что, по существу, оно остается скрытым, но тем не менее заранее всё определяет. Изменение существа истины и бытия — собственно бытийное, глубинное событие в истории. Тем не менее имперское как способ бытия исторического человечества — это не причина сущностного изменения ἀλήθεια в veritas, понимаемую как rectitudo, а его следствие, и как это следствие оно — возможная первопричина и повод для раскрытия истины в смысле правильного (Richtige). Правда, разговор об «изменении существа истины» — это вынужденная крайняя мера, ибо в данном случае об истине мы еще говорим как о чем-то предметном: мы не воспринимаем ее так, как бытийствует она сама и как «есть» история. Сущностное изменение истины одновременно несет на себе то, в чем утверждаются постигаемые историографией действенные взаимосвязи западноевропейской истории. Поэтому историческое состояние мира, которое с историографической точки зрения принято называть Новым временем, тоже имеет в своей основе событие упомянутой романизации эллинства, и бесспорным доказательством тому является сопутствующий началу Нового времени «ренессанс» античности. Более отдаленным, однако ни в коей мере не нейтральным следствием данной романизации и римского возрождения античности является тот факт, что мы и сегодня смотрим на эллинство «римскими» глазами, причем не только в его историографическом исследовании, но — и это остается решающим — в историческом метафизическом разбирательстве современного мира с античностью. Метафизика Ницше, которого обычно воспринимают как человека, вновь открывшего эллинство, видит греческий «мир» совершенно по-римски, то есть одновременно в духе Нового времени, и совсем не по-гречески. Равным образом, мы совершенно не по-гречески мыслим греческую πόλις и «политическое». «Политическое» мы мыслим по-римски, то есть имперски. Мысля в горизонте «по-римски» понимаемого политического, мы никогда не сможем постичь сущность греческой πόλις. Как только мы направляем взор на простые сущностные сферы, которые историографа, правда, оставляют равнодушным, потому что тихи и не бросаются в глаза, но которые по-своему непреложны, мы видим (но видим именно при таком условии), что все наши привычные основополагающие представления — римские, христианские, новоевропейские — с треском разбиваются об изначальную сущность эллинства.
ПОВТОРЕНИЕ
2) Повторное размышление о сущности «ложного», а также
утаивания и раз-утаивания, характерных для ψεΰδος.
Господство по-римски имперского «высшего повеления»
и масштаб различия между ψεΰδος и falsum
Итак, мы размышляем о сущности ψεΰδος, которое принято определять как «ложное». Но для чего мы «занимаемся» ложным, если предположить, что мы здесь вообще им «занимаемся»? Ведь на самом деле мы стремимся к истинному и у нас достаточно сил, чтобы отыскать и сохранить его. Мы стремимся к «позитивному». Так зачем же нам вдаваться в раздумья о негативном? Казалось бы, все правильно.
Но в наших размышлениях мы не гоняемся за ложным: мы «лишь» осмысляем его сущность, а эта сущность как таковая вовсе не является чем-то ложным. Она настолько далека от ложного, что, может быть, даже присутствует в сущности истинного вместе с самым существенным, что в этом истинном есть. Быть может, нам потому так трудно дается отыскание истинного и потому мы так редко его находим, что ничего не знаем и не хотим знать о сущности ложного. Может быть, мы поражены ужасной слепотой, считая, что сущность негативного сама есть нечто «негативное». Кто ничего не знает о сущности смерти, не может даже хоть что-то узнать о сущности «жизни». Сущность смерти не есть не-сущность (Unwesen). В сущности негативности нет ничего негативного, но она не есть и одно только «позитивное». Знать отличие одного от другого недостаточно для того, чтобы уловить то сущностное, к чему принадлежит и не-сущность. Сущность ложного не есть нечто «ложное».
Τò ψεΰδος, которое мы обычно переводим как «ложное», в греческой мысли означает за-ставляющее. При заставлении рисуется следующая картина: вы-ставляя и по-ставляя нечто, оно пред-ставляет это нечто как что-то иное, отличное от того, чем оно является «поистине». В этом «отличном от» заключается «не так, как» на самом деле, то «не так», которое, будучи постигнутым в ракурсе раз-утаивания и несокрытости, совершает сокрытие. Однако поскольку заставление не только представляет «нечто иное» (а именно «нечто иное» по отношению к тому, что должны быть представлено), но и дает возможность появиться чему-то не так, как оно есть «поистине», оно само как бы открывает и, таким образом, представляет собой некий вид раскрытия. Если бы ψεΰδος вообще не обладало этой основной чертой утаивания и раз-утаивания и тем самым чертой сокрытия, оно никогда не смогло бы стать противосущностью к ἀλήθεια, несокрытости. В понимании греков основная особенность «ложного» — сокрытие. Чтобы ни с чем не смешивать этот изначальный опыт, свойственный грекам, необходимо прояснить, как определяется сущность ложного вне эллинства и по завершении его исторического времени, — определяется там, где она все равно еще находится в тени греческого света.
Слово «ложный» — ненемецкое: оно восходит к латинскому falsum, которое является причастием к глаголу fallere; ту же самую основу имеет немецкий глагол «fallen», приводить-к-падению, и греческий глагол σφάλλω. Переводя его словом «обманывать», мы не должны забывать, что «обманывать», понятое по-гречески, определяется в ракурсе ψεΰδος, то есть в ракурсе за-ставления и пред-ставления, утаивания. В греческой мысли глагол σφάλλω, «я обманываю», означает сущностное следствие того, что обозначает ψεΰδος, тогда как в римской глагол fallere как приведение-к-падению является сущностной причиной ψεΰδος. На чем основывается преимущество глагола fallere, когда римлянин стремится выразить нечто противоположное истине? На том, что основное отношения римлянина к сущему властно проникнуто идеей повеления (imperium). Imperium означает im-parare, «обустраивать», заранее принимать меры; оно означает prae-cipere, то есть нечто заранее-занимать (захватывать) и через этот захват господствовать над ним, превращая захваченное в сферу собственного властного повеления. Imperium есть приказ, повеление. В той же сущностной сфере «имперского», властно «приказного» и под-властного берет начало римское право: ius — iubeo, «я повелеваю». Повеление — сущностная основа господства, и поэтому для ясности и большей сообразности мы переводим слово «imperium» как «высшее повеление». Верховное бытие (Obensein) тесно связано с господством. Такое бытие становится возможным только при условии постоянного пребывания наверху (Obenbleiben) в смысле постоянного возвышения над чем-либо. Такое возвышение есть подлинный actus имперского действия. В сущности постоянного возвышения сокрыто (как в случае с живущими в долине среди гор) подавление и приведение-к-падению. Неприкрытое «опрокидывание» в смысле низвержения хотя и является самым грубым, но не представляет собой собственно имперского способа приведения-к-падению. Самая яркая и самая сокровенная сущностная черта настоящего господства выражается в том, что те, кем овладели, не подавляются или совершенно презираются, но сами, находясь в сфере властного приказа, изъявляют готовность пойти на службу во имя обеспечения незыблемости данного господства. Приведение-к-падению сводится к тому, что падающие в каком-то смысле остаются стоять, но они не стоят наверху. Поэтому имперское приведение-к-падению, fallere, есть не что иное, как позволяющий стоять «обходительный» (Umgehen) обман. В римском сознании сущность обмана, введения в заблуждение, сущность за-ставления и, следовательно, того, что греки называют словом ψεΰδος, определяется в ракурсе приведения-к-падению, fallere. Ошибочное превращается в falsum.
Признав, что различие между греческим ψεΰδος и римским falsum — это не какое-то различие между греческими и римскими горшками или копейными наконечниками, признав, что здесь совершается изменение в самой историчности всякой истории, мы станем глубже осмыслять процесс преобразования эллинства римским началом. Тот факт, что и по сей день (и сегодня даже решительнее, чем когда-либо раньше) Запад мыслит Грецию по-римски, то есть по-латински, то есть по-христиански (как язычество), то есть по-романски, то есть по-новоевропейски, — это такое событие, которое затрагивает средоточие нашего исторического вот-бытия. Политическое, которое как πολιτικόν однажды возникло из сущности греческой πόλις, осмысляется по-римски. Со времен империи греческое слово «политический» означает нечто «римское». «Греческого» в нем — только звучание.
с) Имперское в форме куриального, свойственного курии.
Взаимосвязь слов "verum" и «истинное».
Ненемецкое значение «истинного» через римско-христианское "verum".
Verum: незыблемо правильное как антоним слову falsum.
Verum u a-pertum; λαθόν и его противоположность слову ἀληθές
Возникает вопрос: как обстоят дела с сущностью ложного, с римским falsum? Внимательнее присмотревшись к процессу усвоения римлянами греческой поэзии, мысли, речи и образа, мы видим, что falsum, то есть приводящее-к-падению, изменило смысл ψεΰδος, то есть за-ставляющего, преобразовало его в соответствии со своим собственным смыслом, уподобило его себе и тем самым вытеснило. Такое уподобление всегда является самой опасной и самой долгой формой господства. С тех пор Запад знает ψεΰδος только в виде falsum. Противоположностью истинному для нас становится ложное, однако Рим не просто утверждает первенство ложного как определяющей меры в истолковании сущности не-истины на Западе: упрочение первенства falsum по отношению к ψεΰδος и придание этому упрочению черт постоянства — тоже дело рук Рима. Правда, действующей силой теперь является не государственная, а церковная «империя», то есть священство (Sacer-dotium). «Имперское» приходит в образе куриального, характерного для римской папской курии. Господство папы тоже утверждается на повелении. Повеление заключено в самой сущности церковной догмы, и потому она одинакова в своем отношении как к «истинному» (Wahre) «правоверных», так и к «ложному» (Falsche) «еретиков» и «неверующих». Испанская инквизиция является формой римской куриальной империи. Под воздействием имперско-государственного и имперско-церковного римского духа греческое ψεΰδος превращается на Западе в «ложное», и в соответствии с этим истинное приобретает характер не-ложного (Nicht-Falsche). Не-ложное, так же, как и falsum, определяется из сущностной сферы имперского fallere. Говоря по-римски, не-ложное есть verum.
После того как мы, пройдя путь подготовительного разъяснения сущности ἀλήθεια, то есть по-гречески понимаемой сущности истины, прояснили смысл слов ἀληθές («несокрытое», «раскрывающее»), ψεΰδος («за-ставляющее»), falsum («приводящее к падению») и тем самым разъяснили смысл слова «ложный», мы создали основные условие для того, чтобы понять, как обстоят дела с римским словом, призванным передать смысл греческого ἀληθές, то есть со словом verum, а также (и прежде всего) с нашими немецкими словами «истина» и «истинное», соотносящимися с греческой ἀλήθεια. Поскольку слово «истинное» является антонимом слову «ложное», а это последнее, в свою очередь, восходит к римскому falsum, «verum» как римский антоним к falsum должен, наверное, вместе с falsum принадлежать к одной и той же сущностной сфере и, следовательно, должен включать в эту сферу и «истинное». При этом, правда, предполагается, что «истинное» и «verum» взаимосвязаны. Так оно и есть, поскольку немецкое «истинное» (wahr) издавна определялось через римско-христианское «verum». У этого процесса своя глубина и даль, потому что, когда христианство провозглашается среди германцев, veritas и verum передают не какое-то римское речение среди прочих: христианская вера преподносится как некое целое как таковое, даже как veritas вообще, как verum вообще, как «истинное» во всей полноте, потому что Христос говорит о самом себе: ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή (Ин. 14, 6).
В этом речении от греческого — только слова и не более, и потому оно вскоре перешло в римский язык Вульгаты: Ego sum via, et veritas, et vita, «Я есть путь, истина и жизнь» (Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben). Немецкое слово «истина» и «истинный» употребляются в значении veritas и verum, которые становятся господствующими благодаря церковной латыни. Нельзя с уверенностью сказать, имело ли немецкое слово «истинный» прежде этого значения или наряду с ним какое-то свое основное значение, которое не определялось в ракурсе verum и falsum: нельзя потому, что этот вопрос достаточно темный. Он темен, поскольку нигде в историчности немецкой истории не дает о себе знать другая сущность «истинного» и «истины». Хотя о слове «истинный» не так решительно говорят, что оно «ненемецкое» (как братья Гримм некогда сказали о слове «ложный» (falsch), тем не менее надо признать, что оно — тоже ненемецкое слово, если мы не будем забывать об одном вполне ясном факте: его нормативное значение по-прежнему определяется через римско-христианское verum.
Но что означает это латинское verum? Основа «ver» — индогерманская, равно как основа «fall» в словах σφάλλω, fallere, «fallen». Основа «ver» ясно просматривается в немецких словах «препятствовать» (wehren), «оборона» (die Wehr), «плотина» (das Wehr); во всем перечисленном сокрыт момент «противо-стояния», «сопротивления»: «плотина» — дамба, выстроенная, чтобы чему-то препятствовать; италийско-оскское «veru», ворота — то, что не дает войти и пройти, — verostabulum — vestibulum — вестибюль, место, которое «стоит» непосредственно перед закрытым входом, перед ver (stabulum), место перед дверью. Однако в этом «ver» заключено не только противостояние, ибо в противном случае слово «защита» (Ab-wehr) было бы тавтологией; идея, заключенная в слове «wehr», — это не только действие «против» (wehr-gegen). В «Парцивале» (Parcival) «ver» означает не защиту в смысле отражения (Ab-wehr), а удержание себя в себе самом (Sichwehren), самоутверждение: действие, направленное-на (wehr-für). Здесь «ver» означает: удерживать позицию, оставаться в определенном стоянии, хотя в этом, конечно, всегда есть какая-то доля противостояния, которое, правда, может родиться только из собственной устойчивости. «Ver» означает стоять-в-стоянии, пребывать-в-стоянии, то есть не-падать (никакого falsum), оставаться наверху, утверждать себя, быть-главой, повелевать. Себя-утверждающее и прямостоящее — это прямое (вертикальное). Свое значение незыблемо, должно правильного, как антонима слову falsum, verum получает в контексте уже упомянутого имперского смысла. Тем самым из изначального «ver» вытесняется тот смысл, который в древне-латинском veru просматривается в «воротах» и «двери», а в немецком — в «плотине» (ворота, которые при-крывают и за-крывают; плотина, которая запирает). Первоначальный смысл, имевшийся в «ver» и verum, — это «закрытие», «укрытие», «сокрытие», «скрытие», а не «оборона» («Wehr») как сопротивление. В греческом языке эта индогерманская основа слышится в слова ἔρυμα: оградительный вал, прикрытие, закрытие. Однако ἔρυμα, с которым, таким образом, напрямую связано римское verum, в греческом означает как раз противопоставление «истинному», понимаемому как ἀλήθεια. Verum, ἔρυμα — закрытие, покрытие; ἀλήθεια — рас-крытие, рас-скрытие. Но разве могло бы данное противопоставление осуществиться, если бы сущности, обозначаемые этими словами, не присутствовали в одном и том же сущностном измерении, хотя и скрытым образом? Правда, римское слово, обозначающее «истинное», а именно «ver», лишь в скрытом виде имеет основное значение «закрывающего укрытия», «запирания», каковое значение никогда не смогло заявить о себе в чистом виде, будучи погребенным под завалами иного смысла. Противоположностью «ver», «verum» как чему-то закрывающему является не-закрытие. Оно «оппонирует», противопоставляет себя тому, что обозначается словом verum. В римском сознании «оппонирующее», противодействующее выражается с помощью приставки «ор»: противостояние закрытию, противостояние тому, что выражается словом «ver», выступление «против» него выражается глаголом op-verio, или ap-verio, латинским aperio («я открываю»). Однако ведущее значение по-римски понятого открывания — это «не-закрытие». В римском слове «aperire» («открывать») слышится первоначальное verum. Согласно своему основному значению причастие, образованное от глагола aperio, а именно apertum, то есть не-закрытое, соответствует греческому ἀληθές, несокрытому. Pertum, которое устраняется в a-pertum, есть не что иное, как verum, которое соответствует греческому λαθόν (λαθές). Первоначальное ver-, verum означает то же самое, что и греческое λαθόν, то есть означает как раз противоположность тому, что выражается в слове ἀληθές. Строго говоря, в таком случае латинское verum должно было бы отождествляться с греческим ψεΰδος, коль скоро последнее является антонимом к ἀληθές. Однако на самом деле римское verum в своем значении не только не покрывается греческим ψεΰδος, но является противоположностью этому слову, понятому по-римски, то есть выступает как противоположность к falsum. Когда мы как следует над этим подумаем, перед нами откроются таинственные пути, по которым идут язык и слово, пребывая в той сфере, где решается судьба сущностной возможности самого слова и, следовательно, сущностной возможности истины ее сущности. Итак, по отношению к римскому именованию «истинного», то есть по отношению к verum, мы удерживаем в памяти два события.
1. Verum, ver- первоначально означает закрытие, замыкание, покрытие как сокрытие. Римское verum входит в смысловое поле греческого ἀληθές, то есть «несокрытого», причем входит так, что становится противоположностью этому ἀληθές и означает закрытое.
2. Однако поскольку verum выступает как антоним римскому falsum и решающим в их противостоянии остается сущностная сфера «властного повеления» (imperium), смысл, заключенный в «ver», а именно «закрытие» и «покрытие», переиначивается: «ver» означает теперь «покрытие» как охранение, направленное против чего-либо; теперь «ver» — это самоудержание, пребывание-наверху. «Ver» есть противоположность не-падению (Nicht-fallen); verum — это непрестанное стояние, нечто прямое, вы-прямленное, вертикальное, направленное вверх (nach oben Gerichtete) как сверху направляющее и вершащее (von oben her Richtende): verum есть rectum (regere, «режим»), должное, iustum. Сфера «сокрытия» и «раскрытия» перемещается в область римского не для того, чтобы стать там критерием, определяющим сущность истины (хотя в самом «ver» она, конечно, слышится). В ракурсе «имперской» установки verum тотчас становится пребыванием-наверху, указующим правильное; отныне veritas есть rectitudo, то есть «правильность». Теперь эта исконно римская чеканка сущности истины, упрочивающая в сущностной структуре западной сущности истины свою основную черту, властно проникающую собою всё остальное, — теперь она сама по себе начинает содействовать тому развитию сущности истины, которое намечается уже в эллинстве и одновременно характеризует исток западноевропейской метафизики.
d) Изменение сущности ἀλήθεια, начавшееся с Платона.
Усвоение «репрезентативной» функции ἀλήθεια через ὁμοίωσις (как правильности
(rectitudo), характерной для ratio), совершившееся в veritas.
Rectitudo (iustitia) церковной догматики и iustificatio евангелической теологии.
Certum u «usus rectus» (Декарт). Кант.
Замыкание круга сущностной истории истины в превращении
veritas в «справедливость» (Ницше).
Заключение греческой ἀλήθεια в романский бастион под названием
veritas, rectitudo и iustitia
Уже у Платона и особенно у Аристотеля в греческом понимании сущности ἀλήθεια совершается перемена, к которой в определенном отношении принуждает сама ἀλήθεια. Издавна ἀληθές представляет собой несокрытое и раскрывающее. Несокрытое как таковое может раскрываться для человека и через человека только тогда, когда раскрывающее отношение держится несокрытого и сообразуется с ним. Такое отношение Аристотель называет словом ἀληθεύειν, что означает «раскрывая, сохранять связь с несокрытым в выявляющем сказывании». Сообразование с несокрытым, удерживающее себя в таком отношении к нему, по-гречески называется ὁμοίωσις: раскрывающее соответствие, которое выражает несокрытое. Это соответствие воспринимает и удерживает несокрытое так, как оно есть. Удерживать нечто как нечто по-гречески называется οἴεσθαι. Λόγος, который теперь означает высказывание, обладает строем такого οἴεσθαι. Это раскрывающее соответствие еще удерживается и совершается целиком в сущностном пространстве ἀλήθεια как несокрытости[vi], однако в то же время ὁμοίωσις (то есть сообразующееся соответствие), будучи способом осуществления того, что Аристотель именует словом ἀληθεύειν, как бы берет на себя роль определяющей «репрезентации» упомянутой ἀλήθεια. Будучи не-заставлением (не-застиланием) сущего, ἀλήθεια предстает как уподобление (Angleichung) раскрывающего речения обнаруживающему себя, раскрытому сущему, то есть предстает как ὁμοίωσις. Отныне ἀλήθεια предстает только в такой сущностной форме и воспринимается именно так.
Veritas, имеющая другое происхождение и предстающая как rectitudo, словно создана для того, чтобы вобрать в себя сущность несокрытости (ἀλήθεια) в утвердившейся отныне «репрезентативной» форме уподобления (ὁμοίωσις). Правильность высказывания есть себя-направление с уже управленным, упрочившимся, должным. Для греческой ὁμοίωσις как раскрывающего соответствия и римской rectitudo как себя-направления-в-соответствии-с-чем-то в одинаковой мере характерно уподобление речения и мышления предлежащему и упрочившемуся положению дел. Это уподобление называется adaequatio. Со времен раннего Средневековья ἀλήθεια, идущая по пути через «римское» (das Römische) в облике ὁμοίωσις, превращается в adaequatio. Veritas est adaequatio intellectus ad rem (истина есть сообразование разума с вещью). В ракурсе этого определения сущности истины как «правильности» мыслит вся западноевропейская философия от Платона до Ницше. Это определение сущности истины есть истинное понятие метафизики, точнее говоря, метафизика становится собственно метафизикой в ракурсе таким образом определенной сущности истины. Однако в результате того, что греческая ὁμοίωσις становится латинской rectitudo, в этой ὁμοίωσις упраздняется сфера раскрытия (ἀλήθεια), еще бытийствующая здесь для Платона и Аристотеля. В rectitudo, в «себя-направлении-в-соответствии-с» тоже содержится то, что греки называют οἴεσθαι (удерживать что-либо как таковое и таким образом воспринимать его), однако если греческое «удерживание» еще совершается в сущностной сфере раскрытия и несокрытости, то в римском «удерживании» этой сферы уже нет. На смену приходит римский глагол reor (reri), которому соответствует существительное ratio. Перефразируя римское изречение res ad triarios venit («дел дошло до крайности»), мы можем сказать, что res ἀληθείας ad rationem venit, то есть «дело несокрытости (ἀλήθεια) дошло до ratio». Сущность истины, понятая как veritas и rectitudo, переходит к ratio человека. Греческое ἀληθεύειν, то есть раскрытие несокрытого, которое еще для Аристотеля властно пронизывает сущность τέχνη, превращается в просчитывающую и обустраивающуюся ratio. В результате нового сущностного преобразовании истины ratio начинает определять сферу технического (das Technehafte) в современной, то есть машинной технике. Эта техника берет начало в той сфере, из которой выходит повелевающе имперское. Имперское же исходит из сущности истины как правильности, понимаемой в смысле задающего направление, указующего и обустраивающего обеспечения безопасности господства. «Почитание-истинным», характерное для ratio, для reor, превращается в прощупывающее и заранее прогнозирующее возможные ситуации обеспечение господства. Ratio превращается в просчитывание, в calcul. Ratio есть сообразование с правильным, устроение себя на его основе.
Ratio — это facultas animi, способность человеческого ума, actus которого совершается внутри человека. От ratio отличается «res» (вещь), по отношению к которой в rectitudo, понятой как adaequatio, и должно совершаться уподобление. Но теперь все происходит вне сущностного пространства ἀλήθεια, уже полностью погребенного и забытого; происходит без несокрытости вещей и раскрывающего отношения к ним человека. Сущность истины как veritas и rectitudo лишается пространства и почвы. Veritas как rectitudo — это нечто душевно-умственное, совершающееся внутри человека, и потому применительно к истине возникает вопрос: каким образом душевно-умственный процесс, протекающий внутри человека, вообще может сообразовываться с вещами, которые находятся снаружи? Теперь начинаются попытки разъяснения внутри непроясненной области.
Если мы подумаем о том, что с давних пор человек воспринимается как animal rationale, то есть как мыслящее существо, тогда станет ясно, что ratio — это не какая-то способность человека среди прочих, но основополагающая человеческая способность. То, что человек может совершить на основании этой способности, определяет его отношение к verum и falsum. Чтобы достичь истины как нужного и правильного, человек должен быть полностью уверенным и удостоверением в правильном употреблении своей основной способности. Сущность истины определяется из этой уверенности и достоверности. Истинное превращается в нечто удостоверенное и обеспеченное. Verum превращается в certum, а вопрос об истине — в вопрос о том, может ли человек (и если может, то каким образом) быть уверенным и удостоверенным как по отношению к тому сущему, каковым является он сам, так и по отношению к тому, каковым он не является.
Церковная догматика христианской веры, являясь формой упомянутого «римского» начала, существенно способствовала упрочению истины в смысле rectitudo. В той же области христианской веры начинается и подготавливается новое превращение сущности истины из verum в certum. Лютер ставит вопрос о том, может ли человек и как именно может быть уверенным и удостоверенным в собственном спасении, то есть в «истине»; может ли он — и как именно — быть «истинным» христианином, то есть «правильным», сообразованным с должным, «обоснованным» и оправданным. Вопрос о христианской истине (veritas) недвусмысленно превращается в вопрос об обоснованной праведности (iustitia) и оправдании (iustificatio). Согласно средневековой теологии, iustitia есть правильность ума и воли (rectitudo rationis et voluntatis). Одним словом, rectitudo appetitus rationalis, правильность воления, стремление к такой правильности является основной формой воли к воле. В соответствии со средневековым учением iustificatio есть primus motus fidei, основное движение веры[vii]. Учение об оправдании, причем именно как вопрос о достоверности спасения, становится средоточием евангелической теологии. Новоевропейская сущность истины определяется в ракурсе достоверности, правильности, праведности и справедливости.
Исток новоевропейской метафизики заключается в том, что сущность истины как veritas превращается в certitudo. Вопрос об истинном (Wahre) превращается в вопрос о надежном, обеспеченном и себя самого обеспечивающем использовании ratio. Декарт, первый представитель новоевропейской метафизики, ставит вопрос о правильном использовании разума (usus rectus rationis), то есть об usus rectus facultatis iudicandi (o правильном использовании способности суждения). Теперь сущность сказывания и высказывания — уже не греческий λόγος, то есть не ἀποφαίνεσθαι, не та возможность, которая позволяет появиться несокрытому. Теперь сказывание — это римское iudicium: возможность сказать правильное, то есть надежно уловить то, что требуется. Поэтому в основополагающем трактате новоевропейской метафизики, а именно в «Размышлениях о первой философии» Декарта, в четвертом размышлении речь идет de vero et falso (об истинном и ложном). Теперь там, где все сводится к правильному использованию человеческого разума (usus rectus rationis humanae), ложность (falsitas) понимается как неправильное использование способности суждения (usus non rectus facultatis iudicandi). Это неправильное использование есть error, заблуждение или, лучше сказать, само пребывание в заблуждении, то есть блуждание понимается в ракурсе неправильного использования способности суждения. Неистинное есть ложное в смысле ошибочного, то есть неправильного использования разума.
Во втором основополагающем трактате новоевропейской метафизики, а именно в «Критике чистого разума» Канта тоже постоянно говорится об usus, о применении разума. В этом трактате дается сущностное определение правильного и неправильного использования человеческой способности быть разумным. Вопрос о «правильном использовании» скрывает в себе волю к обеспечению уверенности и надежности, которые человек, находясь посреди сущего и утверждаясь в нем на себе самом, должен и хочет обрести. Veritas, понятая по-христиански, то есть как rectitudo animae и, следовательно, как iustitia, налагает на новоевропейское понимание истины отпечаток уверенности и обеспечения постоянства человеческой установки и ее удержания. Истинное, verum, есть то подходящее и правильное, которое гарантирует уверенность и надежность, и в этом смысле оно есть праведное.
Постигая и осмысляя эти сущностные связи исторически как нашу историю, то есть как новоевропейскую «мировую» историю, станем ли мы удивляться тому, что Ницше, в трудах которого западная метафизика достигает вершины, в своем мышлении утверждает сущность истины в надежной уверенности и «справедливости»? Для него тоже истинное есть правильное, которое себя на-правляет в соответствии с действительным, чтобы обустроиться в соразмерности с ним и тем самым надежно в нем обосноваться. Основная особенность действительного — воля к власти. Правильное должно сообразовываться с действительным, то есть выражать то, о чем говорит это действительное, а оно говорит о «воле к власти». Воля к власти говорит то, в соответствии с чем должна направляться всякая правильность. Соответствие тому, что говорит воля к власти, есть правильное (das Rechte), то есть с-праведливость (die Gerechtigkeit). На исходе западноевропейской метафизики она проявляет свою сущность во властном приказании, исходящем от воли к власти. В контексте «биологического» мышления, вошедшего в обиход со второй половины XIX в., Ницше довольно часто называет «волю к власти» «жизнью» и потому говорит: «Справедливость есть высший представитель самой жизни». Мысль христианская, но выраженная по способу антихриста. Всякое «анти» мыслит в смысловом ключе того, по отношению к чему оно выступает как это самое «анти». С точки зрения Ницше справедливость представляет волю к власти.
В западном понимании истина есть veritas. Истинное — это нечто самоутверждающееся на тех или иных основаниях, нечто пребывающее наверху, нисходящее сверху; это повеление, причем и сам «верх», само «высшее», сам «господин» того или иного господства появляется в различных обликах. «Господин» — это по-христиански понимаемый Бог, «господин» — это «разум», «господин» — это «мировой дух», наконец, «господин» — это «воля к власти». В соответствии со вполне ясным определением, которое дает Ницше, воля к власти в своей сущности есть повеление. В эпоху, когда Новое время становится единым историческим состоянием, охватывающим всю Землю, римская сущность истины, то есть veritas как rectitudo и iustitia, предстает в форме «справедливости». Справедливость — это основная форма воли к власти. Природу «права», которое остается связанным с именно так понимаемой справедливостью, Ницше вполне однозначно определяет в записи, сделанной летом 1883 г., после прочтения появившейся тогда книги Шнейдера «Звериная воля». Он пишет: «Право = воля, направленная на увековечение того или иного соотношения сил»[viii].
Итак, римская veritas превратилась в «справедливость» воли к власти. Замкнулся круг в сущностной истории метафизически постигаемой истины. Однако за пределами этого круга остается ἀλήθεια. Ее сущностная сфера как будто исчезает из области господства западной veritas.
Кажется, что ἀλήθεια ускользнула из истории западноевропейского человечества. Кажется, что в сферу существования ἀλήθεια вступила римская veritas и вырастающая из нее истина, понимаемая как rectitudo и iustitia, правильность и справедливость. Однако это не только кажется: так оно и есть на самом деле. Сфера существования ἀλήθεια оказалась как бы засыпанной чем-то чуждым. Правда, если бы она была только «засыпанной», можно было бы легко вымести «мусор» и очистить эту сферу. В действительности же эта область не просто «замусорена», но «застроена» огромным бастионом так или иначе, но всегда «по-римски», понимаемой истины. К «римскому» в данном случае принадлежит и «романское», а также все новоевропейское, определяемое в его ракурсе, причем оно успело распространиться по всему миру и больше не ограничивается одним только европейским. Здесь мы не можем вдаваться в более обстоятельное рассмотрение просматривающейся в данном случае связи между τέχυη как способа ἀληθεύειν и современной машинной техникой.
Бастион, в котором совершилось упрочение сущности истины как veritas, rectitudo и iustitia, не только не дрогнул перед ἀλήθεια, но вмуровал ее в свои стены, предварительно как следует «обтесав» путем переистолкования. Вот почему с тех пор ἀλήθεια истолковывается в контексте veritas и rectitudo и только в нем.
Но можно ли постичь саму ἀλήθεια в ее собственной изначальной сущности? И если это так и не удается, можно ли, находясь в области господства veritas и rectitudo, понять хотя бы то, что сама эта область все-таки входит в сущностную сферу ἀλήθεια и постоянно обращается к ней, хотя, правда, не знает об этом и не помнит о ней как о своей? Как, находясь в области господства veritas и rectitudo, можно знать или хотя бы догадываться о том, что упомянутые veritas и rectitudo, а также iustitia, на самом деле не только не исчерпывают изначальную сущность истины, но и никогда не смогут ее исчерпать, поскольку они повсюду лишь после ἀλήθεια есть то, что они есть? Пусть западноевропейская метафизика возводит истинное (das Wahre) до высот абсолютного духа Гегеля, пусть к «ангелам» и «святым» обращаются как к «истинному» — существо истины уже давно отклонилось от своего начала, то есть оставило свою сущностную почву, выпало из своего начала и потому являет собой отпадение.
ПОВТОРЕНИЕ
3) История наделения бытием: повторное осмысление
истории сущностного изменения истины.
«Балансы» историографии (Буркхардт, Ницше, Шпенглер).
«Толкование» истории в Новое время
Для того чтобы хоть как-то разглядеть покоящуюся в себе сущность изначальной греческой ἀλήθεια, нам, людям позднейшим, необходимо иметь перед своим взором тот фон, на котором и проступают ее черты. Поэтому придется в двух словах рассказать об истории сущностного изменения истины. В этом наброске мы не рассуждаем об истории понятия истины с точки зрения историографии, а также не говорим о том, как на протяжении столетий люди эту истину понимали, потому что само это понимание в его правильности и неправильности уже основывается на господствующем положении какой-либо сущности истины. Мы говорим об истории самой сущности, об истории самой истины.
Разумеется, в нашем разговоре об истории присутствует, если угодно, определенное понимание сущности истории, которое и является направляющим. Если бы это было не так, ситуация была бы фатальной, но положение дел было бы еще фатальнее, если бы в этом вопросе не было никакой ясности. Ясно и то, что разговор об истории нелегок и во всех отношениях чреват всяческими грубыми кривотолками.
«История», понятая в самой своей сути, то есть осмысленная из сущностного основания самого бытия, представляет собой постепенное изменение сущности истины. Она есть «только» это, причем под этим «только» вовсе не подразумевается какое-то ограничение: речь идет о неповторимости той изначальной сущности, из которой возникают другие сущностные особенности истории, являющиеся следствием этой сущности. История «есть» изменение сущности истины. Исторически сущее обретает свое бытие из этого изменения. В череде перемен, которые претерпевает сущность истины, есть неброские на вид редкие мгновения, когда история как бы замирает. Эти замирающие мгновения сокровенного покоя являются начально историческими, потому что в них сущность истины из своего начала посылает и присылает себя сущему.
С давних пор принято считать, что история совершается там, где мы имеем дело с какими-то процессами, движением и течениями, где нечто «происходит», ибо считается, что история имеет дело с «событием», которое «происходит». Однако на самом деле событийное свершение (Geschehen) и история (Geschichte) означают судьбоносный посыл (Geschick), участь, наделение. Если бы мы говорили на подлинно немецком, мы говорили бы не об «истории» (die Geschichte) в смысле «события», а об «истории» (das Geschiсht) в смысле наделения бытием. Лютер, например, еще употребляет это подлинное немецкое слово (das Geschiсht). Вопрос в том, что является для человека по-настоящему по-сылаемым, при-сылаемым и себя-присылающим. Если сущность человека заключается в том, что он являет собой то самое сущее, которому бытие раскрывает себя самое, тогда сущностное при-сылание и сущность «истории как посыла» есть раскрытие бытия. Если же речь идет о раскрытии сущности истины и если в соответствии с изменением этой сущности изменяется и наделение бытием, тогда сущность «истории» есть изменение сущности истины.
В сокровенном покое этого изменения покоится и волнуется, стоит незыблемо и колеблется, цепенеет в себе самом и раскачивается во все стороны то, что в ракурсе «историографии», то есть разведывания и выведывания опредмеченной «истории», констатируется как «события» и «свершения», совершенные дела и поступки, одним словом, как факты. Затем все зафиксированное (сопряженное с огромными затратами на техническую аппаратуру, необходимую для современных исследований) выступает на первый план и создает впечатление, что техника историографии и есть сама история. Происходит отождествление «историографического» с историческим. Затем из этого «историографического» выводят «балансы», устанавливают «таксы», определяют «квоты» «расходов», на которые человек должен пойти в истории. Наверное, не случайно, что даже такой мыслитель истории, как Якоб Буркхардт (и как раз он), движется в горизонте упомянутых «балансов», «таксации», «квот» и «расходов», «просчитывая» историю по схеме «культура и варварство». Ницше тоже не выходит за пределы этой схемы, характерной для XIX в., и делает «ценностное определение», то есть расчет, окончательной формой западноевропейской метафизики.
В начале XX в., утверждаясь исключительно на метафизике Ницше и не имея никакой исконной метафизической мысли, Освальд Шпенглер подвел «баланс» западноевропейской истории и провозгласил «закат Европы». Как в 1918 г., когда появилась книга с таким претенциозным названием, так и сегодня многие жадно хотят лишь узнать результаты этого «баланса», ни разу не потрудившись поразмыслить о том, на основе каких представлений об истории был подведен этот дешевый баланс (который, впрочем, ясно просчитал сам Ницше, хотя и осмыслил его на свой лад и в другом измерении). Цех серьезных исследователей успел задним числом насчитать «ошибки», имеющиеся в этой книге, но данное начинание выявило одну достопримечательность: оказалось, что с тех пор сама историография все больше и больше движется в рамках Шпенглерова представления об истории, причем даже там, где она, естественно, делает «более правильные и точные» выводы. Только той эпохе, которая уже давно отказалась от всякой возможности подлинно мыслящего осмысления, писатель посмел предложить труд, в котором блестящее остроумие, поразительная начитанность, мощный дар типизации, необычная дерзость оценки уравновешиваются редкой поверхностностью мысли и совершенной зыбкостью исходных положений. В результате сбивающего с толку полузнайства и небрежности мысли возникает удивительная ситуация, в которой те же самые люди, которых возмущает засилье биологического подхода в метафизике Ницше, вполне нормально чувствуют себя в рамках «закатной» истории, нарисованной Шпенглером, хотя всё в его картине зиждется на одном лишь грубо биологическом истолковании исторического процесса.
Начиная с XIX в. в новоевропейских разговорах об истории охотно рассуждают о ее «толковании» как наделении отысканным «смыслом». Рассуждающие на эту тему ведут себя так, как будто человек как таковой может «одолжить» истории какой-то «смысл», как будто он вообще что-то ей дал взаймы, как будто история только и ждала такого одолжения, и все это само собой предполагает, что история «в себе» бессмысленна и в любом случае с превеликой готовностью примет от человека ее «толкование». На самом деле единственное, что человек действительно может сделать по отношению к истории, так это обратить внимание на то и озаботиться тем фактом, что история вообще-то и не скрывает от него своего смысла и не отказывает ему в нем. Все дело в том, что человек уже тогда утратил смысл истории, когда, как об этом свидетельствует пример Шпенглера, сам лишил себя возможности помыслить хотя бы о том, что же это вообще такое, что, спеша подвести «исторические балансы», он облекает словом «смысл». «Смысл» есть истина, в которой покоится то или иное сущее как таковое. «Смысл» же истории есть сущность истины, в которой остается утвержденным то или иное истинное (das Wahre) соответствующих веков существования человечества. О том, что такое сущность истинного, мы узнаем только из сущности истины, которая позволяет тому или иному истинному быть тем истинным, каковым оно является. Здесь и сейчас мы пытаемся в несколько этапов осмыслить сущность истины.
4) Событие перехода сущности не-истины из греческого ψεΰδος в римское falsum.
Завершение изменения veritas в certitudo, совершившееся в XIX в.
Самообеспечение самодостоверности (Ницше, Фихте, Гегель)
Итак, мы несколькими штрихами обрисовали те изменения, которые претерпела сущность истины в западноевропейской истории. Основные значения антонимических пар (ἀληθές — ψεΰδος, falsum — verum, истинный — ложный, неправильный — правильный) должны стать более понятными дальнейшему размышлению.
Вместе с изменением сущности истины, которая из греческой ἀλήθεια через римскую veritas превращается в средневековые adaequatio, rectitudo и iustitia, а затем — в новоевропейскую certitudo, в истину как достоверность, обоснованность и надежность, меняется сущность и способ противостояния истины и не-истины. Формируется и упрочивается как нечто самой собой разумеющееся мысль о том, что единственной противоположностью истине является ложность. Решающую роль в этом изменении сущности истины, властно распространившемся на несколько столетий западноевропейской истории, играет событие перехода сущности не-истины из греческого ψεΰδος в римское falsum. Этот переход приводит к тому, что на сущности ложности появляется новоевропейский отпечаток. Ложность превращается в error, в заблуждение, понимаемое в смысле неправильного использования человеческой способности что-либо принимать или отвергать. Что же касается правильного использования способности суждения, то она определяется в ракурсе того, что обеспечивает человеку его самоуверенность и самодостоверность. Установка и прицел на такое самообеспечение, со своей стороны, определяют направление, способ видения и выбор того, что представляется как нечто, по отношению к чему и выражается суждение принятия или отвержения.
Сущность veritas, предстающей в форме certitudo, раскрывается в направлении обеспечения постоянства «жизни». Согласно Ницше гарантированная «надежность» жизни, то есть постоянно получаемое ею «пре-имущество», покоится на правильности, то есть на сущностной самообеспеченности «воли к власти». Воля к власти есть действительность, то есть сущность всего «действительного», а не только человека. Сущностную правильность воли к власти и одновременно ее сущностное обеспечение и надежность Ницше, следуя традиционному западному пониманию veritas как iustitia (но еще не зная об этом), называет «справедливостью». В записи, относящейся к 1885 г., мы читаем: «Справедливость как функция широко озирающей вокруг себя власти, которая выходит за пределы малых перспектив добра и зла, следовательно, имеет более широкий горизонт преимущества — намерение удержать нечто большее, чем то или это лицо»[ix]. В данном случае «большее» значит «более ценное».
Отсюда становится ясно: власть, для которой перспективы различения «добра» и «зла» оказываются «малыми», движется в более широком, только ей соразмерном горизонте, который Ницше определяет как горизонт «преимущества». Однако в данном случае преимущество обеспечивается только путем получения сверх-преимущества. Преимущество наделяет всем, что необходимо самообеспечению власти, власть же может обеспечиваться и поддерживаться только благодаря постоянному ее возрастанию. Ницше хорошо понимал и так же хорошо выразил тот факт, что в сущностной сфере воли к власти простое удержание власти на однажды достигнутой ступени сразу же означает понижение властного уровня. Обеспечение власти предполагает постоянную замкнутость этой власти на самой себе и в этой постоянной соотнесенности с самой собой — необходимое возвышение над собой. В этой непрестанной замкнутости на себе самом самообеспечение как самодостоверность само должно стать абсолютным. Очерк метафизической сущности действительности как истины, а этой истины — как абсолютной достоверности впервые появляется у Гегеля в его метафизике абсолютного духа (здесь, правда, надо учесть подготовительную работу, проделанную Фихте). В гегелевской метафизике абсолютного духа истина становится абсолютной самодостоверностью абсолютного разума. В метафизике Гегеля и Ницше, то есть в XIX в., завершается переход истины (veritas) в достоверность (certitudo). Это завершение и утверждение римской сущности истины есть подлинный и тайный исторический смысл XIX столетия.
§ 4. Многообразие противоположностей сущностной
структуре несокрытости
а) Сущностное богатство сокрытости.
Способы сокрытия: ἀπάτη, (μέθοδος), κεύθω, κρύπτω, καλύπτω.
Гомер: «Илиада», XX, 118; «Одиссея», VI, 303; III, 16; «Илиада», ХХШ, 244.
Раскрытие мифа и вопрос о природе греческих богов
Итак, veritas и rectitudo больше не отражают всей полноты ἀλήθεια, и потому верно и другое, а именно то, что сущность не-истины совсем не обязательно должна предстать как falsitas и «ложность». Однако даже тогда, когда мы возвращаемся к более исконной сущности не-истины, то есть когда возвращаемся ко ψεΰδος, которое, будучи утаиванием, позволяет увидеть основную особенность сокрытия и тем самым являет подлинную противосущность (Gegenwesen) несокрытости — даже тогда остается открытым вопрос о том, вбирает ли в себя эта противосущность, ψεΰδος, все оттенки возможного сущностного противостояния истине. Хотя в ходе нашего рассмотрения стало ясно, что кроме ψεΰδος греки знали также σφάλλειν как «введение в заблуждение», данный способ утаивания, то есть так называемый «обман», именно как способ утаивания, уже основывается на собственно утаивании и, таким образом, не представляет собой никакого самобытного противостояния несокрытости. Это же относится и к другому способу утаивания, еще более знакомому грекам, которое они называли словом ἀπάτη. Данное слово мы опять переводим как «обман». С точки зрения состава слова, а также по существу оно означает отход от правильного пути, сворачивание с тропы (πάτος). Распространенное греческое слово, обозначающее путь, — это ἡ ὁδός, а производным от него является μέθοδος, откуда берет начало и заимствованное нами слово «метод». Надо, однако, заметить, что греки понимают данное слово не как «метод» в смысле какой-то процедуры, которая помогает человеку совершать исследующее, изыскательное посягательство на предметы. Для греков μέθοδος есть пребывание-на-пути, а именно на том пути, который не человеком мыслится как некий «метод», но указывается самим сущим и таким образом уже присутствует в ракурсе обнаруживающего себя сущего. В греческом сознании μέθοδος — это не «способ» исследования, а скорее само исследование как пребывание-на-пути. Для того чтобы постичь природу по-гречески понимаемого «метода», мы прежде всего должны усвоить, что для греческого «пути» (ἡ ὁδός) характерны вы-глядывание и про-зревание. «Путь» — это не расстояние между двумя точками и не множественность таких точек. Перспективная и «прозорливая» сущность пути (который сам ведет к несокрытому) и тем самым сама сущность хода, совершаемого на этом пути, определяются в ракурсе несокрытости и непосредственного прихода к несокрытому. Что касается ἀ-πάτη, то это слово означает «объездной», «окольный» путь, который, следовательно, дает другую перспективу и тем самым как бы «хочет сказать», что вот этот путь как раз и ведет «прямиком» к несокрытому. Такой путь позволяет встретиться с тем, что появляющееся на прямом пути не показывает, но поскольку этот окольный путь тоже что-то показывает, свое показанное (Gezeigtes) он как бы предлагает взамен того показываемого (Zuzeigende), которое показывается на прямом пути. Обменивая одно на другое или подменивая одно другим, окольный путь на самом деле обманывает, и в результате такого обмена мы имеем дело с обманом как подменой, то есть с ἀπάτη. Ἀπατηθήναι означает «оказаться на ложном пути», в результате чего предмет постижения оказывается за-ставленным. Таким образом, ἀπάτη — это тоже способ сокрытия, а именно заставления, которое не дает увидеть сокрытое, как бы искажая его. Хотя всякое утаивание и заставление является сокрытием, не всякое сокрытие есть утаивание в смысле за-ставления и вы-ставления как ис-кажения заставленного.
Если, исходя из сказанного, несокрытость соотносится и с другими способами сокрытия, тогда возникает ситуация, которую в ракурсе привычного нам мышления можно охарактеризовать так: ложность, заставление и, следовательно, таким образом понятая не-истина вообще не являются единственной противоположностью истине, при условии, правда, что мы постигаем сущность истины как несокрытость, то есть теперь всегда как раскрытие. Но знали ли сами греки кроме заставления (ψεΰδος) другие способы сокрытия? Конечно, знали. Об этом свидетельствует их язык. Назовем такие известные слова, как κεύθω, κρύπτω, καλύπτω, которые обозначают: укрывание, сокрытие, укутывание. В «Илиаде», например, говорится о том, что Троя «скрывает» богатства (XXII, 118). В «Одиссее» сказано, что корабль Одиссея «скрывает» драгоценное вино (IX, 348). Там же говорится о том, что дом и двор скрывают вступающих туда гостей (VI, 303). Такие способы укрывания и сокрытия входят в круг повседневных отношений и не свидетельствуют о каком-то особом статусе сущности сокрытия. Для нас важнее узнать, что в той же «Одиссее» говорится о том, что земля скрывает мертвецов (III, 16), а в «Илиаде» сказано о погружении в сокрытость в Аиде (Ἄϊδι κεύθωμαι) (ΧΧΙΙΙ, 244). Здесь сама земля и подземный мир имеют отношение к укрыванию и сокрытости. Намечается сущностная связь между смертью и сокрытием. Для греков смерть, как и рождение, — не «биологический» процесс. Рождение и смерть обретают свою сущность из области раскрытия и сокрытия, откуда его обретает и земля. Земля предстает как нечто промежуточное, а именно промежуточное между подземным миром, который скрывает, и светлым, раскрывающим надземными миром (небесный свод, οὐρανός). Что касается римлян, то у них земля выступает как tellus, terra, как нечто сухое, как суша, отличная от моря: на суше можно строить, селиться, обустраиваться, тогда как в море все это невозможно. Земля (terra) превращается в «территорию», становится областью поселения, являя собой властную сферу повеления. В римской terra чувствуется имперский акцент, который совершенно отсутствует в греческих γαία и γή.
Греческие глаголы κρύπτειν и κρύπτεσθαι (отсюда — крипта и склеп (Gruft) подразумевают укрывающее сокрытие. Глагол κρύπτειν употребляется прежде всего по отношению к «ночи» (νύξ), да и вообще день и ночь указывают на событие раскрытия и сокрытия. Поскольку все бытийствующее исконно предстает перед греками в ракурсе сокрытия и несокрытости, говоря о начале всего в целом (das Ganze), они говорят о ночи (νύξ) и ясном небе, ясном дне (οὐρανός). Сказанное таким образом есть начально сказываемое. Оно есть сказание в собственном смысле, начальное слово. По отношению к речению, в котором сказывается такое изначально сказуемое, греки употребляют слово μΰθος. Сущность этого слова определяется в ракурсе ἀλήθεια. Μΰθος есть то, что раскрывает, снимает покров, позволяет увидеть, причем увидеть то, что с самого начала обнаруживает себя как присутствующее во всяком «присутствовании». Лишь там, где такое речение основывается на ἀλήθεια (то есть у греков), и только там, где таким образом обоснованное речение как самобытное сказание ложится в основу всякой поэзии и мышления (то есть опять у греков), лишь там, где поэзия и мысль утверждают изначальную отнесенность к сокрытому (опять-таки у греков) — только там есть именуемое греческим словом μΰθος, там присутствует «миф». Тезис, согласно которому мы имеем дело лишь с каким-то мифом, а именно с μΰθος греков, мало о чем говорит, потому что говорит о чем-то слишком понятном. Это все равно что сказать: есть только огненное пламя. Но ведь миф имеет дело с богами. «Мифология» — это «учение о богах». Да, это так. Но что такое «боги»? В данном случае имеются в виду «греческие боги», и нам мало говорить о том, что в сравнении с единым христианским Богом у греков было многобожие, причем их боги, дескать, были менее «духовными» и вообще по своей природе находились где-то внизу. Пока мы не научимся мыслить греческих богов по-гречески, мыслить из первосущности по-гречески постигнутого бытия, то есть из ἀλήθεια, мы вообще не имеем никакого права говорить об этих богах: ни за, ни против них.
b) Взаимосвязь греческого μΰθος и греческого божества.
Земля, день, ночь и смерть в их отношении к несокрытости.
Потаённое (das Geheime) как один из способов сокрытия.
Другая противосущность истине, не имеющая в себе негативности,
свойственной ложности и за-ставлению
Поскольку, высказывая замечания по поводу «дидактической поэмы» Парменида, мы задались вопросом о сущности богини Истины (Ἀλήθεια), нам придется дать разъяснение о природе взаимосвязи между греческим μΰθος и сущностью греческого божества, так как только о ней здесь и идет речь. Μΰθος есть сказание (Sage), и мы понимаем это слово в его буквальном смысле как сущностно изначальное сказывание (Sagen). «Ночь», «свет», «земля» — это μΰθος, а не «образы» сокрытия и снятия покрова, за пределы которых дофилософское мышление еще якобы не выходит. Наоборот, сокрытие и несокрытость изначально переживаются настолько сущностно, что простой смены дня и ночи еще вполне хватает, чтобы бытийствующее всякого бытийствования поднять в хранящее его слово, то есть в μΰθος. Простое различие света и тьмы, которое мы обычно связываем с днем и ночью, как таковое ни о чем не говорит, и поскольку именно так понимаемое различие бытийствующих сокрытия и раскрытия «ни о чем не говорит», в нем также нет ничего от μΰθος. Различие между светлым и темным остается «немифическим», если прежде прояснение и сокрытие не выступают как сущность светлого и темного, а вместе с ними — то, что выходит на свет и возвращается во тьму таким образом, что именно это выхождение и возвращение составляют сущность того, в чем бытийствует все присутствующее и отсутствующее. Только в том случае, если мы не забываем об этом, мы обретаем меру понимания того, что начальные мыслители само бытие мыслят в контексте несокрытости и сокрытия. И только обретая эту меру, мы сможем по-настоящему измерить глубину греческих речений об укрывании и сокрытии в их существенных связях с землей, смертью, светом и ночью.
Сейчас, правда, мы заключены в бастионе господствующей сущности истины (veritas и «истина» как правильность и достоверность), которая отъединяет нас от изначальной ἀλήθεια. Однако это не означает что в своем историографическом освещении истории эллинства мы с точки зрения нашей осведомленности больше ничего не знаем о древнегреческом «понятии истины» и не ценим его. Это означает нечто существенно иное, достаточное весомое и единственно решающее для нашей истории: целое сущего успело так измениться, что сущее в целом, включая человека, больше не определяется из сущности ἀλήθεια. Поэтому как только мы что-то слышим о сокрытии и способах скрывания, нам сразу же приходят на ум какие-то действия, предпринимаемые человеком. Мы не переживаем сокрытие и раскрытие как событие, которое, напротив, охватывает сущее и человека. Но если греки постигают сокрытие и несокрытость как основную особенность самого бытия, то не должно ли само сокрытие указывать на некую более изначальную сущность, которой никак не отвечает сокрытие в форме ψεΰδος, в форме за-ставления?
В какой-то мере и мы можем замечать и понимать различные способы сокрытия. Мы должны даже стремиться к этому, если еще хотим научиться предугадывать тот способ сокрытия, который у греков наряду со ψεΰδος определял истину всего сущего, то есть его несокрытость и неутаенность.
Обычно мы говорим о скрывании как упрятывании, которое представляет собой вид «устранения», упразднения. То, что больше не находится рядом с нами (греч. παρά), находится в стороне от нас (греч. ἀπό), а то, что находится «в стороне от», что уходит «прочь», то исчезает, отсутствует. То, что не находится рядом, в каком-то смысле больше не есть; оно уничтожается. Уничтожение как устранение представляет собой вид сокрытия.
Однако есть и такой вид сокрытия, при котором сокрытое ни в коей мере не устраняется и не уничтожается, но сохраняется и остается спасенным в том, что оно есть. Такое скрывание не дает нам утратить вещь, как это происходит при заставлении и выставлении (как ис-кажении), при ускользании и устранении. Такое сокрытие хранит. Оно, например, присуще тому, что мы подчеркнуто называем редкостным. Обычно, то есть когда речь идет только о жажде все просчитывать и улавливать, редкостным становится лишь то, что только иногда, да и то для немногих, оказывается в наличии. Однако поистине редкостное наоборот всегда доступно каждому, но оно бытийствует в том сокрытии, которое хранит нечто преисполненное решающей значимости и готово предъявить человеку высокие требования. Такая связь с редкостным — это не охота за ним, а оставление его в покое как признание сокрытия.
Наверное, есть такие способы сокрытия, которые не столько хранят, сберегают и тем самым в какой-то мере все-таки отнимают, сколько неповторимым образом дают возможность прийти к нам подлинно сущностному и одаривают им. Например, создание и дарение настоящего, существенного стиля в том или ином случае является сокрытием, причем не только создателя, но и самого созданного, поскольку последнее не расстается со своим сокровищем, но просто позволяет прийти в несокрытое, позволяет раскрыться тому, что в нем, созданном, скрыто богатство, которое можно получить только в той мере, в какой оно заранее не предполагает никакого использования и ограждено от него. Совершающемуся здесь сокрытию сопутствует то, которое характеризует потаенное (das Geheime). Потаенное может, но не должно, иметь основную особенность тайны. Ее сущность стала чуждой человеку с тех пор, как он «объяснил», что таинственное необъяснимо. В результате тайна превратилась в некий «остаток», который еще надо как-то объяснить, однако поскольку техническое разъяснение и возможность разъяснимости сами определяют, что может считаться действительным, сохранившийся остаток необъяснимого превращается в нечто излишнее. Таким образом, таинственное есть лишь остаток, который в ходе процедуры объяснения еще не принимался в расчет.
Мы, конечно, были бы слишком поверхностными в своих рассуждениях или вообще не потрудились бы как следует подумать, если бы решили, что только какой-то мелкий эгоизм какой-то кучки людей может сделать обыкновенную исчисляемость критерием определения действительности действительного. Напротив, стремясь к тому, чтобы во всяком свершении и устроении вообще не было никакого «остатка» и пролагая этому стремлению, этой воле к абсолютной «безостаточности» широкие пути через все континенты (в результате чего уже не остается ни одного свободного места для того самого «остатка», в котором тайна еще сохраняет свое сияние в форме просто необъяснимого), Новое время отвечает метафизической глубине своего исторического хода. Потаенное, свойственное таинственному, есть тот способ сокрытия, для которого характерна неприметность (Unscheinbarkeit), в силу которой тайна предстает как открытая. Хотя, желая в том или ином случае сказать, что как раз ничего таинственного больше нет, мы и злоупотребляем выражением «открытая тайна», но на самом деле каждый открывает другому, что уже известное нигде не может открыться вновь. В подлинном и строгом смысле слова «открытая тайна», напротив, царит там, где сокрытие таинственного просто постигается как сокрытость и укрывается в исторически сложившейся умалчиваемости. Открытость открытой тайны состоит не в том, что тайна разгадывается и тем самым уничтожается, а в том, что сокрытость простого и существенного нигде не затрагивается и оставляется в своей явленности. Незаметность сокрытия, свойственная подлинной тайне, уже является сущностным следствием того простого (das Einfache), которое само утверждается в изначальном.
Другой вид сокрытия имеет в качестве своего таинственного (das Geheimnisvolle) то потаенное (das Geheime), под прикрытием которого складывается, к примеру, заговор. Для такого сокрытия характерна на какое-то время тесно сплоченная, строящая далеко идущие планы скрытность, которая ждет своего часа, когда внезапно она перестанет быть таковой. Здесь тоже свою роль играет незаметное, но в данном случае оно имеет характер маскировки и обмана. Поэтому такое неприметное должно всюду нарочито выставлять себя напоказ и не забывать поддерживать свою неприметность.
Далеко в стороне от этих способов сокрытия, но тем не менее не выходя за его пределы находится сокрытое как еще не известное. Такое несокрытое очерчивает горизонт, например, научно-технических открытий. Когда такое сокрытое перемещается в несокрытость, мы начинаем говорить о «чудесах техники» и специфически «американском» феномене.
В целом о нашем экскурсе в сущностную структуру сокрытия и сокрытости можно сказать следующее: мы только обозначили сферу, о сущностной полноте которой едва ли догадываемся и, конечно же, не можем ее уловить, потому что не имеем соответствующего опыта постижения. Поэтому неправильно думать, что, перечислив различные способы сокрытия путем рассмотрения значений некоторых слов, мы выявим всю сущностную полноту сокрытости. Когда мы говорим о «способах» сокрытия, мы не имеем в виду, что существует некий род сокрытия «вообще», под который с помощью обычного логического упорядочения можно подвести различные «виды» и «подвиды». Взаимосвязь различных видов сокрытости по свое природе исторична, причем в данном случае историческое по-прежнему надо отличать от «историографического». Последнее представляет собой ознакомление с историческим и усвоение его, причем усвоение чисто техническое, то есть просчитывающее ознакомление с прошлым в его отношении к настоящему и наоборот. Все историографическое зависит от исторического, но история в историографии не нуждается. Историограф — это всегда только техник публицистики. От историографов отличаются мыслители истории, каковым, например, был Якоб Буркхардт.
В данный момент наша задача заключалась в том, чтобы лишь показать, что «противоположностью» несокрытости является не только сокрытие в смысле заставления и ложности; что, напротив, есть способы сокрытия, которые не только свидетельствуют об ином виде сокрытия, но и не имеют того специфически «негативного», что есть в ложности и заставлении. Быть может, благодаря нашему рассуждению нам стало понятнее, почему в западной метафизике только ложность (Falschheit) как единственная противоположность истине смогла обрести первенство и преимущество. В то же время в контексте нашей ближайшей задачи, а именно задачи прояснения сущности греческой ἀλήθεια, разговор о «видах» сокрытости способствует тому, чтобы мы скорее постигли тот способ сокрытия, который у греков постоянно присутствует, но не получает своего дальнейшего осмысления, — быть может, потому, что грекам этого было и не надо, поскольку одно только слово, именовавшее это сокрытие и его сферу, вполне им все разъясняло.
Но тем не менее здесь мы все-таки сталкиваемся с удивительным фактом: несмотря на то, что способы сокрытия, не имеющие ничего общего с за-ставлением, вы-ставлением и обманом, весьма существенно и властно всё собою пронизывают, как способы сокрытия они специально не упоминаются. Быть может, они не упоминаются специально как раз потому, что столь глубинно существенны. Поэтому каждый раз они появляются уже в сущностной форме несокрытости, которая в каком-то смысле еще имеет при себе сокрытость и сокрытие и даже должна их иметь. Вникая в эту взаимосвязь, мы приближаемся к чуду первоначальной ἀλήθεια.
Сейчас, правда, мы не достаточно подготовлены к тому, чтобы продолжать разговор на эту тему. Теперь нам надо осмыслить лишь одно: греки говорят о сокрытии, смысловое значение которого не покрывается «заставлением» и «выставлением» (как искажением) и которое, видимо, связано со скрыванием, безмолвно высказанным в μΰθος. Это скрывание, которое теперь требует осмысления, греки выражали в словах λανθάνεσθαι, ἐπιλανθάνεσθαι.
ПОВТОРЕНИЕ
Дополнительные пояснения: «путь» прибывающего мыслителя
в «дидактической поэме» Парменида.
Взаимосвязь между сущностью богини и путями, ведущими к ее дому и из него.
Окольный и ложный путь. Вопрос об иной противосущности раскрытию.
Сущность раскрытия и сокрытия, приходящая в слово и сказание.
Утрата слова как сохранения отнесенности бытия к человеку.
Римское переистолкование фразы τὸ ζᾠον λόγον ἔχον в «animal» rationale.
Кант, Ницше, Шпенглер. Μΰθος, ἔπος, λόγος
Итак, применительно к третьему аспекту, появляющемуся в результате перевода греческой ἀλήθεια словом «несокрытость», мы стремимся узнать о том, какова природа «противоположения» той сферы «противоположности», в которой находится «истина». Поскольку на предыдущем и нынешнем часе (взятыми в их взаимосвязи) мы сделали существенный шаг вперед, имеющий решающе значение не только для осмысления природы противостояния истины и не-истины, но и для понимания «дидактической» поэмы Парменида, все пройденное необходимо повторить в русле некоторых разъяснительных дополнений к нему и потому придется повременить с желанием тотчас продолжить размышления. Противоположность «истине» коротко и ясно именуется «не-истиной».
Употребляя слово «не-истина», мы обычно, как и в разговоре о «не-справедливости», думаем не только об отсутствии справедливости или недостатке истины. Как «не-справедливость» противо-стоит справедливости, так и «не-истина» противо-стоит истине. Запад осмысляет сущностную противоположность истине как ложность. В сфере этой противоположности возникают различные вариации ложности, выступающие в форме сущностных следствий не-истины, ее утверждения и сообщения. Что касается греков, то и их ψεΰδος скрывает в себе многообразие способов за-ставления и вы-ставления как ис-кажения. Греческую ἀπάτη мы называем «обманом», потому что в ней вновь становится зримой принадлежность ψεΰδος сущностному кругу, очерчиваемому «несокрытостью» (ἀλήθεια). Во всем, что именует ἀπάτη, мы должны мыслить это слово по-гречески. Ἀ-πάτη — это обходной (как ложный) и окольный путь. Однако для греков основная особенность «пути» (ἡ ὁδός, ἡ μέθοδος, «метод») выражается в том, что, направляя ход, он по этому ходу размыкает вы-сматривание и про-смотр и таким образом подводит к незамкнутому.
Не приводя в этом указании на сущность пути уже цитировавшихся нами стихов из «дидактической поэмы» Парменида, отметим, что богиня приветствует мыслителя, прибывающего этим «путем», и тут же говорит о том, что ему предстоит пройти особый путь, пролегающий в стороне от той тропы (ἐκτὸς πάτου), которой обычно ходят люди. Смысл таков, что мыслителю на его пути покажется нечто иное, перед ним предстанет некий вид, который нельзя увидеть, идя по обычному людскому пути. Поскольку на «высматривающем» (ausblickhaften) пути мыслителя показывается необычное, здесь совершается самообнаружение, то есть раскрытие, в особом, «знаковом» смысле. Поэтому в более широком контексте данной «поэмы» речь идет о знаках (σήματα). Между богиней Ἀλήθεια и ведущими к ее дому путями (а также путями, которые можно определить из этого дома) существует глубинная связь. «Путь» как вы-сматривающее и про-сматривающее предоставление явлений относится к сфере ἀλήθεια. С другой стороны, к ней и ее царствованию принадлежат пути. Впоследствии такая сущностная взаимосоотнесенность ἀλήθεια и ὁδός просматривается (и то лишь непроясненным в своей сущностной причине образом) в том «факте», что для достижения правильных представлений необходим «метод». Путь (πάτος, πάτη) мыслителя пролегает в стороне от привычной тропы человека, но давайте подумаем, является ли этот «сторонний» путь лишь окольным и не более того. Не случается ли так, что обычный человеческий путь — это не что иное, как не ведающая самой себя, но непрестанно окольная дорога? И если мы идем в стороне от улицы, то это еще не значит, что наш путь непременно окольный в смысле «отдаленного» и обособленного. С другой стороны, и окольный путь — не обязательно ложный. Ложный путь — это ἀπάτη. Ракурсы, которые предлагает ложный путь, пред-ставляют то, что за-ставляет собой иное, а именно то, что появляется на пути, ведущем прямо к цели. «Вести по от-водному» пути значит менять один путь на другой: это вид за-ставления и искажающего вы-ставления, вид ψεΰδος, и следовательно, это обман. Все подобное «идет» против «не-сокрытости», против истины и, таким образом, является видом не-истины, а по-гречески — не-раскрытия и, следовательно, сокрытия.
По-гречески мыслимая сущность ψεΰδος получает свое разъяснение из сущности ἀλήθεια, из несокрытости, царствующей как раскрытие. Ψεΰδος как противосущность ἀλήθεια яснее определяется как заставляющее сокрытие, a ἀλήθεια, со своей стороны, более четко выступает как раскрытие, осуществляющееся по способу не-заставляющей возможности явления. Несокрытость — это не-заставленность (Unverstelltheit).
Возникает вопрос: не являются ли заставление и искажающее выставление вместе со своими сущностными вариациями единственно возможным способом сокрытия? Давая отрицательный ответ, мы признаем возможность существования других способов сокрытия, а тогда возможно, что истина как несокрытость и раскрытие связана с этими другими способами; что раскрытие в своей сущности не обязательно жестко соотносится с одним только не-заставлением.
Согласно привычному для нас способу мышления это означает, что противосущность истины не исчерпывается одной только ложностью и не исполняется только в ней, а вместе с тем возникает вопрос, всегда ли это «против» имеет смысл от-вращения и вражды.
Правда, для нас, сегодняшних, вследствие долгого и незыблемого господства ложности как единственно известной и признанной противоположности истине вполне «естественна» та «прописная истина», что если что-либо и может противостоять истине, так это непременно ложность. Поэтому и в христианстве мы склонны искать сущность, противоположную ἀλήθεια, именно во ψεΰδος и более нигде. Такой подход в известной мере свойствен даже грекам, потому что они издавна отождествляют ἀληθές и ἀψευδές, и в результате то, против чего в ἀλήθεια, так сказать, выступает привативная частица ἀ-, оказывается не чем иным, как ψεΰδος. Это свидетельствует о том, что даже тогда, когда мы всерьез воспринимаем ἀλήθεια как несокрытость и раскрытие и исключаем всякую возможность ее превратного толкования через veritas, нет никакой гарантии, что мы действительно постигаем изначальную сущность ἀλήθεια.
Если ψεΰδος не является единственным способом сокрытия, то как в таком случае выглядят другие и как в их контексте определяется другая противосущность раскрытию? Греки познают и выражают сокрытие по-разному, причем дело касается не только повседневного обращения с вещами и их рассмотрения, но и сферы сущего в его целом (Ganze) и последнем (Letzte). Смерть, ночь, день, свет, земля, подземное и надземное, — все властно пронизано сокрытием и раскрытием и всегда погружено в эту сущность. Всюду изначально бытийствует восхождение в несокрытое и нисхождение в сокрытие.
Такое бытийствование раскрывания и скрывания, предшествуя всякому сущему, всегда и всюду во всяком бытии приходит к слову и входит в слово греков. Это есть изначально сказанное, то есть собственно сказание (die Sage). Поэтому по-гречески постигнутая сущность слова и самого сказания имеет свою собственную основу и отличительную особенность в том, что это слово и сказание позволяют явиться раскрытию и сокрытию, раскрытому и сокрытому.
Сущностное слово — это не повеление и не приказ, не возвещение, не предсказание и не «учение» - и тем более оно никогда не является одним лишь последующим «выражением» каких-то «представлений». Такое слово есть присущий одному лишь эллинству и вверенный его сущности способ раскрывающего сохранения несокрытости и сокрытия сущего. В слове и как слово бытие сущего в его отношении к сущности человека проступает таким образом, что из этого отношения оно дает возможность «взойти» человеческой сущности и получить определение, которое мы называем «греческим». Согласно этому определению человек есть τὸ ζᾠον λόγον ἔχον: от самого себя восходящее сущее, которое восходит так, что в своем восхождении (φύσις) имеет слово и имеет его для восхода. В этом слове сущее, которое мы называем человеком, устанавливает свое отношение к сущему в его целом, посреди которого человек есть он сам как таковой. Ζᾠον означает «живое», но ζωή, то есть «жизнь», мы не должны здесь понимать в позднегреческом, римском или новоевропейском «биологическом» смысле «зоологии». «Живое» есть φύσει ὄν, то есть сущее, бытие которого определяется через φύσις, восхождение и саморазмыкание. Правда, греческое определение сущности человека вскоре переистолковывается на римский лад: ζᾠον превращается в animal, a λόγος — в ratio. Человек становится animal rationale. В новоевропейском мышлении сущностью субъективности, то есть «яйности» человека, является ratio, разум. Поэтому для Канта человек есть тот «скот» (animal), который может сказать «я». Определяя ζᾠον в современно-биологическом контексте как «животное» и вообще «живое существо», мы мыслим по-римски и по-новоевропейски, но не по-гречески. Всякая антропология, как философская, так и научно-биологическая, понимает человека как «мыслящее животное». Однако поскольку в доницшевскую эпоху существования метафизики сущность «жизни» и «животности» еще не понималась как воля к власти, а человек на пути к чистому самоуполномочению себя во всем и на все еще не достиг всей полноты власти и, таким образом, еще не вышел «за» пределы прежнего определения своей сущности, получается, что нынешний человек еще не поднялся «над» прежним человеком. Он еще не сверх-человек.
Это слово, помысленное в ракурсе ницшевской метафизики, вопреки расхожему мнению не подразумевает, что в данном случает речь идет о человеке огромного роста с накачанными мускулами и низким лбом: «сверх-человек» — это прежде всего историко-метафизическое понятие, которое означает прежнего человека, перешедшего в сущностную сферу воли к власти как действительности всего действительного; означает того человека, который уже был определен как animal rationale. Поэтому Ницше мог сказать, что человек, который еще не стал сверх-человеком, представляет собой «еще не устоявшееся животное», то есть животное, сущность которого еще не стала восприниматься окончательно метафизически. В соответствии с этим последним метафизическим определением человека Шпенглер в своем популярном сочинении «Человек и техника», вышедшем в свет в 1931 г., писал (S. 54): «В главных чертах характер свободного хищника от индивида перешел на организованный народ: зверь с одной душой и множеством рук». Примечательно сделанное добавление: «И с одной головой, а не многими».
В ходе римского переистолкования по-гречески понимаемой сущности человека из греческого λόγος, то есть из «слова», вырастает римская ratio. Слово лишается своей основы и изгоняется из своего сущностного места. Ему на смену приходит ratio и разум. Люди по-прежнему знают и не забывают о том, что человек имеет «язык», но теперь эта способность начинает восприниматься как одна из многих. В конце концов, возникает странная ситуация, когда становится необходимой особая философия, а именно «философия языка», по аналогии с «философией искусства» и «философией культуры». Феномен «философии языка» убедительно свидетельствует о том, что мы уже давно утратили знание сущности слова, то есть возможность его изначального постижения. Слово больше не является хранителем связи бытия с человеком: теперь слово — это формообразование и вещь языка. Язык же есть нечто такое, чем человек обладает наряду с глазами и ушами, впечатлениями и устремлениями, мыслями и желаниями, то есть это способность выразить и сообщить свои «переживания». Слово как речение разъясняется из обособленных слов, а они — из языка как наличествующего «феномена выражения». Язык и слово служат тому, чтобы включать «истинное» и «истину» в разговор как средство обычного сообщения и таким образом их выражать. Для себя же «истина» превращается в «правильное» представление о предметах. Это представление протекает «внутри», а язык «выражает» это внутреннее. Таким образом, поскольку правильность сообщает себя в правильном высказывании и, следовательно, мышление и разумное действие человека попадают в выразительную сферу «языка», принято считать за нечто само собой разумеющееся, что уже у греков издавна ἀλήθεια прежде всего заявляет о себе в связи со «словом» и «сказыванием», ἔπος и εἰπείν. Однако причина такого «факта» кроется не в языке «как средстве выражения», а в природе самой ἀλήθεια, которая, будучи существом самого бытия, как бы заговаривает с существом как «существом», как-то относящимся к сущему как таковому.
Уже у Гомера слово, обозначающее «истинное», то есть ἀληθές, «приходит в соединение» со «сказанием», однако это происходит не потому, что истина часто «вы-сказывается», а потому, что сущность слова и сказания коренится в сущности истины и принадлежит ей. Греческое именование слова или речения — ὁ μΰθος. В этой связи также используется ἔπος. Не случайно изначально творческо-поэтическое речение греков, а именно слово Гомера, называется «эпосом». Есть и третье именование слова — λόγος. Перечисленное дает понять, что издавна греки по-разному обозначали «слово». В то же время у них не было никакого термина, который обозначал бы «язык». Они, правда, знают слово γλώσσα, обозначающее язык как орган речи, но никогда не мыслят речение в ракурсе этого «языка», физически используемого для речи. В соответствии с этим сущностное определение человека не звучит как ἄνθρωπος ζᾠον γλώσσαν ἔχον (нечто живое, имеющее язык как орган речи»). Такой «язык» есть и у коровы, и у осла. Но если возможность обладать словом, а также делать его своим, усваивать его, является сущностной отличительной особенностью человека, если греки именно так понимают и постигают природу человека, тогда не должны ли они, отличая себя самих и свое «человечество», использовать именно это сущностное отличие?
Отличая себя от других народов и рас, греки называют их βάρβαροι, то есть такими, кто наделен необычной чужой речью, не определяющейся как λόγος, ἔπος и μΰθος. Противоположностью «варварству» для греков является не «культура», а пребывание внутри упомянутых μΰθος и λόγος. «Культура» появляется только с наступлением Нового времени, она начинается в тот момент, когда veritas превращается в certitudo, когда человек начинает утверждаться на самом себе и, осуществляя «уход» за самим собой, то есть «культивируя», выращивая, «создавая» себя, превращается в творца, то есть в гения. Греки не знают ничего похожего на «культуру» и «гениальность». Возникает странное впечатление, когда слышишь, как и сегодня лучшие филологи-классики пустословят о «гениальной» греческой культуре. Считается, что от греков пошло то, что на новоевропейский лад называется «культурой»: организация «духовного мира», осуществленная человеческим своеволием. По существу, «культура» — то же самое, что и техника; в строго греческом понимании и то, и другое не имеет ничего общего с мифом. Если мыслить по-гречески, то «культура» и «техника» — такие же формы «варварства», как и «природа» Руссо.
Λόγος, ἔπος и μΰθος едины в своей сущности. О «мифе» и «логосе» только потому много и ошибочно говорят как о противоположностях, что в греческой поэзии и мысли они суть одно и тоже. Что касается многозначного и сбивающего с толку термина «мифология», то здесь слова μΰθος и λόγος так связались между собой, что оба утратили свою изначальную сущность. Стремясь с помощью «мифологии» понять μΰθος, исследователи, так сказать, черпают воду решетом. В нашем употреблении «мифическое» имеет теперь вполне определенный смысл: «мифическое» есть раскрывание и скрывание, укрытые в раскрывающе-скрывающем слове — то раскрывание и скрывание, в каковом изначально проявляется основная сущность бытия. «Смерть», «ночь», «день», «земля», «небосвод» — сущностные способы раскрытия и сокрытия.
§ 5. Противоположность ἀληθές: λαθόν, λαθές.
Событие изменения ускользающего и отъемлющего сокрытия
и человеческое забывание
а) Царствование сокрытия в λανθάνεσθαι.
Сокрытие забывающего в забытом: забытие.
Гесиод, «Теогония», V. 226 и след.
Λήθη и сокрытая сущность Эриды
(Ссоры), дочери Ночи.
Пиндар
Говоря о противоположности слову ἀληθές (несокрытое и раскрывающее), мы отмечали, что если бы в языке она была выражена словами, имеющими общую основу с данным словом, то мы имели бы дело с λαθές, λαθόν, но на самом деле мы столкнулись с ψεΰδος. Правда, мы узнали и о том, что глагол λανθάνειν, то есть «бытие-сокрытым» (Verborgensein) обладает у греков однозначно первенствующим сущностным достоинством, которое выражается в своеобразной «управляющей» функции глагола: λανθάνω ἥκων, «я прихожу незамеченным» (в исконно «греческом» смысле: «я пребываю в сокрытом как приходящий»). В основе, на первый взгляд, одного лишь «грамматического» отношения правит другое, которое теперь вкратце можно выразить так: сокрытость и несокрытость определяют способ существования сущего. Это означает, что раскрытие и сокрытие — основная черта бытия.
Господство сокрытия прежде всего выражается в глаголах λανθάνεσθαι, ἐπιλανθάνεσθαι, которые мы переводим как «забывать», тем самым переистолковывая их так, что в результате их «греческая» сущность утрачивается. Предыдущее размышление уже показало, что в том, что мы называем «забыванием», для греков совершается сокрытие. В греческом опыте забытое есть погруженное в сокрытость, причем так, что это погружение, то есть сокрытие, остается сокрытым даже для самого того, кто забыл забытое. Говоря точнее и в более «греческом» смысле, мы должны сказать, что забывающий остается сокрытым для себя самого в своем отношении к совершающемуся с тем, что потом, вследствие этого совершения, означает для нас забытое. Забывающий не просто забывает забываемое, но заодно и себя самого как того, от которого забытое ускользает. Здесь совершается сокрытие, которое одновременно захватывает забытое и забывающего, тем не менее не упраздняя их.
Это сокрытие характеризуется своеобразным распространением своего воздействия. Для характеристики события такого сокрытия у нас есть только одно слово — «забвение», хотя оно, скорее, указывает на то, куда погружается забытое, а не на случай, отъединяющий человека от забытого им. Мы вообще мыслим забывание с точки зрения «субъекта», понимаем его как не-удержание в памяти и потому говорим о «забывчивости», вследствие которой из нашей памяти что-то легко «выпадает», когда мы за одним делом забываем о другом. Здесь забывчивость — это просто слабая сосредоточенность. Кроме того, есть забывание, которое мы объясняем «расстройством памяти». В психопатологии это называется «амнезией». Тем не менее слово «забывчивость» слишком легковесно, чтобы характеризовать им то забывание, которое постигает человека, поскольку забывчивость — это лишь невнимательность. Когда мы забываем что-то важное, перестаем обращать на него внимание, так сказать, выкидываем из ума и даже гоним, тогда мы говорим не о «забывчивости», а о «забвении». Забвение — это то, во что нечто попадает, во что это нечто приходит, куда оно падает, но забвение также то, что на-падает на нас, постигает нас и что мы сами каким-то образом допускаем. Для характеристики события забвения лучше подходит ранее употреблявшееся слово забытие (Vergessung): нечто попадает в забвение. Мы всюду слишком торопимся, и потому у нас нет времени остановиться и спросить о том, что, собственно, происходит в «забвении». Является ли забвение, в которое «нечто» попадает, во что это «нечто» падает, лишь следствием того, что какие-то люди больше не думают о нем? Или, быть может, то, что они о нем больше не думают, есть лишь следствие чего-то иного, а именно того, что они сами вверглись в забвение и потому уже не знают ни о том, чем они обладают, ни о том, что утрачивают? Чем же в таком случае является забвение? По крайней мере, не только творением человека и не только человеческим упущением.
Только начав мыслить забытие как сокрытость, принадлежащую своеобразному сокрытию, мы приближаемся к тому, что греки называют словом λήθη. В «Теогонии» Гесиода есть такие строки:
Αὐτὰρ Ἔρις στυγερὴ τέκε μὲν Πόνον ἀλγινόεντα
Λήθην τε Λιμόν τε καὶ Ἄλγεα δακρυόεντα
«Но [богиня] Эрида [Раздор], мрачная,
породила тягостный Труд, страданье несущий,
Также Забытье, Нехватку и Скорбь многослезную».
Λήθη, «Лета» — это дочь «Эриды». Она упоминается вместе с Λιμός, что неправильно переводится словом «голод». Хотя забывание «тягостно», а «голод» также тягостен и мучителен, их воздействие на душевно-телесное самочувствие человека или, говоря более современным языком, физиолого-психологический, одним словом, «биологический» аспект забывания и голода не «интересует» греков, и потому это даже не имеется в виду, когда Λήθη и Λιμός упоминаются вместе. Нечто общее имеют не их способы воздействия на человека, а сами их сущности. Λήθη, то есть забытье, есть сокрытие, которое лишает существенного и отчуждает человека от самого себя, то есть в данном случае лишает его возможности жить в своей сущности. Λιμός не означает «голода» в смысле желания поесть: связанное с глаголом λείπω («исчезать», «позволять исчезнуть»), это слово означает отсутствие пищи. Λιμός подразумевает не неудовлетворенное желание человека, не его состояние, а событие отсутствия даяния и наделения. Такое отсутствие, как и сокрытие, имеет в себе сущностную особенность от-падения. В соответствии с этим помыслим так: нечто падает и при этом от-падает прочь. Это от-падение является видом убывания и убытия. От-падающее больше не обращено к присутствующему, пребывающему, и тем не менее это «от» в своем от-вращении от пребывающего не оставляет его в том смысле, что самым тревожным образом дает ему знать о своем оставлении. Здесь мы прозреваем сокровенную сущность противоречивого и противоборствующего, и потому Λήθη и Λιμός берут начало в «Эриде», богине, которая именуется «Раздором». Отпрысками Раздора здесь, среди прочего, названы «Тягота» и «Скорбь», и как раз такое их происхождение намекает на то, что нам надо избегать опасности новоевропейского превратного истолкования этих слов и не осмыслять обозначаемое ими «психологически», то есть как «виды переживания». Именно такое привычное для нас истолкование является главной причиной того, что область греческой трагедии остается все еще совершенно закрытой для нас. Мир Эсхила и Софокла — это не мир Шекспира. Немецкий гуманизм смешал это несопоставимое, и в результате эллинство стало для нас совершенно недоступным. Роковую роль здесь сыграл Гете.
В «Теогонии» Гесиода о Λήθη говорится только то, что она родилась от Эриды вместе с Λιμός. Что касается самой Эриды, то она является дочерью Ночи (Νύξ), которая называется ὀλοή: у Гомера и Гесиода так часто именуется Мойра (Μοίρα). Ὀλοή переводят как «губительная», и надо сказать, что такой перевод опять оказывается «правильным» и тем не менее «негреческим». Непонятно, почему Ночь должна быть «губительной». Губить значит разрушать, уничтожать, то есть лишать бытия и, стало быть (если мыслить по-гречески), лишать присутствия в бытии. Ночь есть ὀλοή, потому что она дает возможность исчезнуть всему присутствующему: исчезнуть благодаря сокрытию. В каком отношении Μοίρα называется ὀλοή нам станет ясно, если, вернувшись к отрывку из Парменида, мы поразмыслим о том, что означает фраза Μοίρα κακή, то есть «злая Участь». Сказанное Гесиодом о Λήθη для греков оказывается достаточным, для нас же, пришедших позднее, этого слишком мало, чтобы мы могли яснее понять сущность λήθη и постичь природу ее сущностной, бытийной связи с ἀλήθεια. Несмотря на то что λήθη мы встречаем часто, особенно у поэтов, она все-таки называется не так решительно, как ἀλήθεια у мыслителей. Быть может, это умолчание даже лучше отвечает сущности λήθη. Мы ведь почти не думаем о том, что те же самые греки, которым слово и сказывание были дарованы в их исконной природе, как раз поэтому могли также весьма своеобразно безмолвствовать, поскольку «молчание» — это не просто не-говорение. Кто не может сказать ничего существенного, не может и молчать. Только в существенном сказывании и только через него царствует то глубинное молчание, которое не имеет ничего общего с утайкой, «прятками» и «оговорками». Греческие мыслители и поэты глубинно молчат о λήθη, молчат в ее даль. Но, быть может, не случайно и то, что в эпоху завершения эллинства о сущности λήθη вспоминают еще раз, причем вспоминают в довольно важной связи. Однако прежде чем этого коснуться, необходимо привести один отрывок из VII Олимпийской оды Пиндара, дающий возможность прояснить греческую сущность λήθη в одном важном аспекте. Нам, правда, придется не обращать внимания на то поэтическое великолепие, которым проникнута вся ода в целом и наш отрывок в частности.
b) Благоговейная приязнь в VII Олимпийской оде Пиндара (VII, 48-49; 43 и след.)
и у Софокла («Эдип в Колоне», 1267).
«Ἀρετή» (раз-решительность) как раскрытость человека,
определенная из ἀλήθεια и αἰδώς
Итак, поэт рассказывает нам μΰθος о заселении прославляемого им острова Родоса. Поселенцы пришли туда без искры огня и поэтому им пришлось на вершине города «Линда», то есть в акрополе (ἀκρόπολις), основать святилище с беспламенными жертвоприношениями.
τεῦξαν δή ἀπύροις ίεροις ἄλσος ἐν ἀκροπόλι.
Итак, поселенцы пришли на остров без огня, и это не обычное упущение. Наверное, случилось что-то такое, что от них не зависело, как, впрочем, вообще все дела и поступки людей, всё, что они постигают и на что способны, определяется неким своеобычным определяющим. С такой оговорки начинается «миф» об основании города (ibid., 43-47).
ἐν δ’ ἀρετὰν
ἔβαλεν καὶ χάρματ’ ἀνθρώποισι Προμαθέος Αἰδώς
ἐπὶ μὰν βαίνει τι καὶ λάθας ἀτέκμαρτα νέφος,
καὶ παρέλκει πραγμάτων ὀρθὰν ὁδὸν
῎εξω φρενών
«В цветение и радость ввергает людей благоговейная приязнь, настраивающая в предмыслие; но иногда наплывает [никак] не обозначенное облако сокрытия и влечет прямой путь дел в сторону, вовне обдуманно раскрытого».
В это отрывке дается самое прекрасное, с поэтической точки зрения, разъяснение сущности λήθη, причем здесь λάθα противостоит αἰδώς. Последнее слово мы переводим как «благоговейная приязнь», но оно не означает никакого «субъективного» чувства, никакого «состояния переживания» со стороны человеческого «субъекта». Αἰδώς (благоговейная приязнь) захватывает человека как нечто определяюще-устанавливающее, то есть настраивающее. В контексте противостояния этой приязни сокрытию (λάθα) становится ясно, что она определяет несокрытое (ἀλήθεια) в соответствии с его несокрытостью, в которой находится вся сущность человека со всеми его способностями. Αἰδώς (основное слово поэзии Пиндара и, таким образом, основное слово настоящего эллинства) никогда не подразумевает (даже если мы понимаем эту благоговейную приязнь как нечто настраивающее) одной только робости, запуганности и боязливости. Скорее всего сущность благоговейной приязни, о которой здесь говорится, мы улавливаем из ее противосущности, которую называем «отвращением». Приязнь, преисполненная трепетного благоговения, настраивает на предмыслие о том, что определяет сущность человека из сущего в его целом. В понимании грека αἰδώς — это не чувство, которое переживает человек, а настроение как то настраивающее, которое, настраивая, определяет его сущность, то есть отнесенность бытия к человеку. Поэтому αἰδώς — это самое высокое в сущностной близости к высшему богу — Зевсу. Потому Софокл говорит:
ἀλλ’ ἔστι γὰρ καὶ Ζηνὶ σύνθακος θρόνων
Αἰδώς ἐπή ἔργοις πάσι
«Но Αἰδώς восседает даже вместе с Зевсом, возвышаясь над всем приставленным» («приставленным» сущим, которое человек поставляет и предоставляет).
Бытие само несет в себе благоговейный, приязненный страх, а именно страх быть. Таким образом, бытие изначально стоит на страже своей сущности. Αἰδώς и подразумевает этот страх. Он вселил в человека ἀρετή: ἐνέβαλεν ἀρετάν. Ἀρετή — столь же существенное греческое слово, как и αἰδώς, причем существительное женского рода ἀρετά еще труднее перевести, чем αἰδώς. Если мы переведем его словом «добродетель», это будет звучать слишком «моралистично», если переведем как «пригодность», имея в виду «дельность» и «результативность», это тем более будет звучать «современно» и введет в заблуждение. Ἀρετή подразумевает восхождение, размыкание и как бы встраивание, влаживание (Einfügen) основной сущности человека в бытие. Ἀρετή соотносится со словом φυά, которым Пиндар именует сущность человека, восходящую в несокрытость. У ἀρετή и ἀρτύω та же основа, что и у латинского ars, которое стало римским эквивалентом греческой τέχνη и которое мы переводим словом «искусство». На основании этого, сообразованного с бытием, восхода и размыкания человеческой сущности в ἀρετή человек находится в «рас-торгнутом», разомкнутом, раскрывающе-раскрытом отношении к сущему. Находясь в такой ἀρετά, в такой рас-торгнутости, человек в буквальном смысле «раз-решен» к бытию сущего, то есть не от-решен от него.
По-гречески понимаемая ἀρετά, расторгнутость как раз-решительность, как определенная из ἀλήθεια и αἰδώς раскрытость человеческого существа в корне отличается от «решительности», осмысленной на новоевропейский лад и утвержденной на человеке как «субъекте»: сущность последней коренится в волевом акте человека, сознательно и намеренно утверждающемся на самом себе и только на себе. Решительность новоевропейского «ренессансного» человека берет начало в воле к воле. В эту сферу входит по-римски помысленная ἀρετή, которая становится равной латинской virtus, итальянской virtu и к которой позднее примыкает «виртуозность». «Решительность» в современном смысле есть выверенное упрочение воли на себе самой. Метафизически она принадлежит сущности воли к воле, которая прежде всего проявляется в воле к власти. Решительность в современном смысле не основывается на ἀλήθεια, но утверждается на самодостоверности человека как субъекта, то есть на субъективности. По-новоевропейски понятая решительность желает того, что уже пожелала ее собственная воля, она влечется волею к воле, и такая ее «влекомость» характеризуется римским наречием fanatice (исступленно, фанатично). Характерной особенностью современной решительности является «фанатическое». В противоположность этому решительность как рас-торгнутость, раз-решительность, по-гречески понятая как размыкание, раскрывающееся бытию, имеет другое сущностное происхождение: она берет начало в ином способе постижения этого бытия, а именно в αἰδώς, в страхе, исполненном благоговейной приязни; она бросает и посылает человеку ἀρετά. Αἰδώς как сущность бытия приносит человеку раскрытие сущего, но ему властно противостоит λάθα, сокрытие, которое мы называем забытием.
ПОВТОРЕНИЕ
1) Три наименования сущностной истории Запада.
Ссылка на «Бытие и время».
Существенное мышление.
Гельдерлин, Пиндар.
Начало сущностной отнесенности бытия к человеку в слове и сказании.
По-гречески понимаемая сущность человека.
Гесиод
Итак, кроме сокрытия, совершающегося как за-ставление и искажающее вы-ставление, в бытии господствует также скрывание, дающее о себе знать в смерти, ночи и всём ночном, земле, а также всём подземном и надземном. Такое скрывание властно пронизывает все сущее в целом, пронизывает первое и последнее. В то же время оно заключает в себе изначально всё слаживающий способ возможного раскрытия и несокрытости сущего как такового. Где бы и как бы сущее ни восходило в несокрытость, везде прежде всего бытие «приходит к слову». Поэтому в соответствии с изначальным господством сокрытия и раскрытия, пронизывающим всё бытие, слово равносущно в своем происхождении раскрытию и сокрытию. Слово имеет свою собственную сущность в том, чтобы дать сущему возможность появиться в его бытии и таким образом появляющееся, то есть несокрытое, сохранить как таковое. Бытие изначально отдает себя в слово.
Если, основываясь на этой изначальной бытийно-сущностной взаимосоотнесенности бытия и слова, мы попытаемся понять скрытую бытийную историю Запада, мы сможем простым событиям этой истории дать три именования. Правда, их использование всегда рискованно, если дело не идет дальше заглавий. Итак, первое начало бытийной истории Запада стоит под заголовком «Бытие и слово». Союз «и» выражает ту бытийную взаимосоотнесенность, взойти которой позволяет само бытие, а не размышляющий об этом человек, и позволяет для того, чтобы в этой соотнесенности привести свою сущность к истине. У Платона и Аристотеля, которые сказывают исток метафизики, слово превращается в λόγος в смысле высказывания. В ходе развития метафизики это высказывание становится ratio, разумом и духом. Метафизика Запада, бытийная история истины сущего как такового в целом, которая приносит себя в слово в мышлении от Платона до Ницше, стоит под заголовком «Бытие и ratio». Поэтому в эпоху метафизики и только в эту эпоху появляется «иррациональное», а вслед за ним — «переживание». В третьем титуле, а именно в «Бытии и времени», «время» — это не сосчитанное время «часов» и не «время» «переживания», как его понимает Бергсон и другие. В данном титуле «время», в соответствии с его ясно выраженной принадлежностью бытию, есть именование более исконной сущности ἀλήθεια: оно называет бытийную основу для Ratio, а также для всего мышления и сказывания. Как бы странно это не звучало, «время» в «Бытии и времени» предстает как именование изначальной основы слова. «Бытие и слово», то есть начало бытийной истории Запада, постигается изначальнее. Трактат «Бытие и время» лишь указывает на то, что само бытие посылает западноевропейскому человечеству более изначальный опыт. Это более исконное начало может совершиться только как первое начало в историческом в западноевропейском смысле народе поэтов и мыслителей. Эти положения не имеют ничего общего с кичливым осознанием своего особого призвания: они, скорее, предполагают опыт смуты и тяготы, переживая которые народ далеко не сразу может занять свое место в западноевропейской судьбе, скрывающей в себе судьбу всего мира.
Поэтому необходимо знать, что этот исторический народ уже победил и является непобедимым (если здесь вообще можно говорить об «одержании победы»), коль скоро он предстает как народ поэтов и мыслителей и остается в своей сущности таковым, пока не становится жертвой страшного (и страшного в силу своей непрестанной угрозы) отхода от своей подлинной сущности и непризнания ее.
Сказав это, я не сказал ничего нового, да и смеет ли мыслящий человек искать усладу в том, чтобы сказать что-то новое? Искать это новое и изобретать его — дело «исследования» и техники. Существенное мышление должно всегда говорить одно и то же, старое, древнейшее, изначальное, причем говорить изначально. Как говорит об этом самый немецкий поэт (самый немецкий потому, что он творит из западноевропейской истории самого бытия и только потому является будущим поэтом Германии) — как говорит об этом Гёльдерлин в своей «Песне немца»?
«О священное сердце народов, отечество!
Ты всё терпишь, как Матерь-Земля безмолвная,
И не признана всячески ты, коли черпают
Чужаки из глубин твоих жадно все лучшее.
Твои мысли и дух пожинают безжалостно.
Гроздь твою обрывают охотно, с насмешками
Над тобою, лоза, красотой оскудевшая,
Что ты землю объемлешь, качаясь неистово»[x].
У греков слово как μΰθος, ἔπος, ρήμα и λόγος есть то, в чем бытие наделяет собой человека, дабы тот хранил его в своей собственной сущности как уделенное ему и, совершая такое хранение, только через него обретал и удерживал свою собственную сущность как человека. Поэтому дарованная судьбой способность «иметь слово» (λόγον ἔχειν) является сущностной отличительной особенностью человечества, которое исторически сложилось как эллинство.
Поскольку сказание (die Sage) как раскрывающее слово содержит в себе изначальную отнесенность бытия к человеку и только благодаря этому — отнесенность человека к сущему, это сказание и сказывающее речение являются более сущими (seiender), чем всякое другое сущее, которое обычно человек совершает и привносит. Согласно Пиндару ρήμα. то есть сказывающее-сказанное речение превосходит всякие ἔργματα (Nem. IV, 8). Правда, не всякое слово превосходит любое «дело», но только то сказывающее речение, к которому проявила доброжелательность χάρις, так что в слове проявляется одаряющая благосклонность восходящего бытия. Мы, люди сегодняшние, и вообще все новоевропейское «образование», едва ли можем составить хотя бы приблизительное «представление» о том, как в эллинстве слово и сказание начинали, поддерживали и совершали сущностную отнесенность бытия к человеку. Расхожая и очень удобная «картина», в которой перед нами предстает эллинство, вообще может не дать нам как следует продумать связь между бытием и словом — ту связь, на которой все и держится. Говорят, что греческая архитектура, произведения изобразительного искусства, храмы, статуи, вазы и вазопись не в меньшей степени «выражают» душевную жизнь грека, чем мышление и поэзия. Говорят, что заострение внимания на взаимосвязи бытия и слова если не полностью «ложно», то, во всяком случае, односторонне. Мы вернемся к этому соображению, когда будем говорить о сущности ἀλήθεια.
Только там, где человечество получило сущностную возможность иметь слово (λόγον ἔχειν), — только там оно продолжает осуществлять свое предначертание, а именно хранить несокрытость сущего. Только там, где это предначертание господствует, а в нем прежде предстает несокрытость как само бытие, — только там бытийствует и сокрытость, причем так, что никогда не заявляет о себе просто как пустая и враждебная противоположность раскрытию, выступающая как за-ставление, искажающее вы-ставление, как ложный путь, обман и подлог.
Существует другой, более исконный способ сокрытия, отличающийся от всего перечисленного: греки назвали его словом, которое в отличие от ψεΰδος, ἀπάτη и σφάλλειν, сохраняет прямую связь с исконной основой — итак, сокрытие есть λήθη.
Поскольку знание о сущности λήθη в какой-то мере определяет и знание о сущности ἀλήθεια, а мы, позднейшие, тем не менее привыкли толковать λήθη, понятое как «забывание», в смысле «субъективного переживания» и некоего вида человеческого поведения, необходимо заранее ясно определить, какие сущностные связи господствуют во взаимоотношении между λήθη и ἀλήθεια.
Надо признать, что греческие мыслители не говорили об этих связях так, как теперь вынуждены о них говорить мы. Именно потому, что греки осуществляют свою внутреннюю сущность в призвании «иметь слово», эллинство может «иметь» и сохранять его тем своеобразным способом, который мы называем «молчанием». Когда мы размышляем о том существенном, что отличает греков, мы видим, что они о нем почти не говорят, а там, где говорят, все равно говорят умалчивая. Этим мы указываем на ту основу, из которой проистекает своеобразие трагического слова греческой трагедии. Оно заключается в сущностной двойственности трагического слова, которая возникает не потому, что поэты прибегают к ней ради сценического «эффекта»: напротив, эта двойственность вверена им из самой сущности бытия.
Почему бы грекам, так своеобразно «имеющим» слово, не молчать и не вести себя скрывающим образом как раз там, где они постигают само исконное сокрытие, постигают λήθη? Но можно ли молчать об этом сокрытии, не говоря о нем хотя бы время от времени? Гесиод упоминает о λήθη вместе с λιμός, то есть с отсутствием пищи. И то, и другое в своем сущностном происхождении восходит к утаивающей ночи. Пиндар же в ином отношении говорит об утаивающей сущности λήθη и по-иному отсылает нас в ее сокрытую сущность.
с) Πράγμα: рукодействие (Handlung).
Слово как бытийная сфера действия человеческой руки.
Рукопись и машинопись. Ὀρθός и rectum.
Сущностное рукодействие и путь к несокрытому.
Забытие как сокрытие.
Уход человека «прочь» от несокрытости и слово никак не обозначенного облака.
Помрачение. Ускользание λήθη.
Еще раз о Пиндаре. Гесиод
Итак, Пиндар говорит о λάθος ἀτέκμαρτα νέφος, то есть о смутном, никак не обо-значенном облаке сокрытия и тем самым вполне определенно показывает утаивающую сущность того, что мы назвали «забвением». Облако, проплывающее мимо солнца и закрывающее его, скрывает ясность неба, застилает свет, лишает ясной видимости. Оно наводит тень, нагоняет мрак как на вещи, так и на людей, то есть на связь между ними — на то, в чем, собственно, бытийствует эта взаимосвязь. Сами вещи, вид, который они являют, и взор человека, направленный на этот вид, то есть человек и вещь в результате совершившегося помрачения больше не находятся в изначально воссиявшем свете и не действуют в нем. Когда затмевающее облако забытия ἐπιβαίνει, то есть наплывает на вещь и человека, тогда: παρέλκει πραγμάτων ὀρθὰν ὁδὸν ἔξω φρενών («и влечет прямой путь дел в сторону, вовне обдуманно раскрытого»).
Здесь появляется слово πράγμα, которое мы обычно переводим как «вещь» и «предмет». Πράττω означает: проникать через что-либо, промерять, пролагать путь через за-ставленное, достигать чего-то на этом пути и таким образом предоставлять, приставлять как присутствующее всё то, что было достигнуто через это прохождение (в этот же смысловой круг входят ἔργω, ἔργον).
Исконно, в том числе у Пиндара, πράγμα означает как упомянутое предо-ставление (при-ставление), так и само предоставленное; точнее говоря, πράγμα означает исконное единство того и другого в их взаимосвязи: еще не разделенное и в сущности своей неразделяемое единство достигающего предоставления (приношения) и того несокрыто присутствующего, что было достигнуто в этом достижении. Здесь πράγμα как вещь и предмет еще не отделяется, не отличается и не отъединяется от πράξις как предполагаемой «деятельности». Πράγμα еще не сводится до уровня понятия о «предмете», с которым что-то совершают, по отношению к которому как-то «действуют». Мы перевели это слово именно как «рукодействие» (Handlung), и хотя перевод не является дословным, правильно понятое «рукодействие» затрагивает исконно существенное существо данного термина. Дело в том, что вещи тоже «рукодействуют» (handeln), поскольку, находясь «под рукой» (Hand), будучи «сподручными», они присутствуют в области «руки». Рука протягивается к ним и достигает их: πράττει означает достижение чего-либо с помощью протянутой руки, a πράγμα остается тем, что существенно связано с этой рукой.
Человек сам «действует» рукой, потому что рука вместе со словом составляет его сущностное отличие. Только то сущее, которое «имеет» слово (μΰθος, λόγος), также может и должно «иметь» руку. Рукой совершается молитва и убийство, знак приветствия и благодарения, приносится клятва и делается намек, и ею же осуществляется какое-нибудь ремесло («рукоделие»), делается утварь. Рукопожатием закрепляется нерушимая договоренность. Рука вызывает «дело» опустошения. Рука бытийствует как рука только там, где совершается раскрытие и сокрытие. У зверя нет руки, и никогда лапа и когти не станут рукой. Даже рука отчаявшегося человека — меньше всего «лапа», которой он «царапается». Рука появляется только из слова и вместе со словом. Не человек «имеет» руки, но рука вбирает в себя сущность человека, потому что только будучи сущностной сферой действия руки слово является сущностной основой человека. Слово, как нечто запечатленное с помощью знака и именно так предстающее перед взором человека, есть слово написанное, то есть письмо. Но слово как писание есть руко-писание, руко-пись.
Современный человек не случайно пишет «на» пишущей машинке и «диктует» «под» машинку (кстати, «диктовать» перекликается с «сочинять» (dichten). Эта «история» способа письма одновременно выступает как главная причина нарастающего уничтожения слова. Теперь слово появляется перед глазами не благодаря пишущей и в собственном смысле «рукодействующей» руке (handelnde Hand), a в результате того, что эта рука просто «давит» на клавиатуру. Пишущая, а точнее печатающая машинка вырывает письмо из бытийной сферы руки, то есть слова. Слово превращается в нечто «напечатанное», каковое оправдывает свое собственное ограниченное применение в том случае, если является лишь копией чего-то такого, что просто надо сохранить или представить в напечатанном виде. На заре появления печатных машинок, письмо, написанное на такой машинке, расценивалось как некоторое несоблюдение правил приличия, а сегодня письмо, написанное от руки, воспринимается вечно куда-то спешащим получателем как досадная помеха его прочтению, и потому такой подход к написанию писем считается старомодным и не приветствуется. При записи слова механизированное письмо умаляет достоинство «живой» руки, превращая слово только в некое средство передачи информации. Кроме того, отпечатанное на машинке хорошо тем, что не дает увидеть почерк человека и, стало быть, узнать его характер. В «печати» все люди выглядят одинаково.
Под «рукодействием» («рукоделием») мы понимаем единую бытийную сферу «подручных» вещей и привносяще «рукодействующего» (handelnden) человека. К понимаемому таким образом «рукодействию» с сущностной необходимостью принадлежит и «путь» как выверяющий перспективу ход (Gang), совершающийся вперед-назад между тем, что имеется «под рукой» человека, и им самим как привносяще «рукодействующим». Путь, ἡ ὁδος, характеризуется тем, что он ὀρθά. Греческое ὀρθός означает «прямой» и подразумевает: «напрямик», «вдоль», «поодаль», а именно вдоль перспективы и прозревания в сторону несокрытого. Основное значение греческого ὀρθός отличается от значения римского rectum как «направленного вверх», потому что это rectum в то же время предстает как «сверху вниз направляющее», «повелевающее» и «правящее». Римская rectitudo, помимо прочего, заслоняет собою греческую ὀρθότης, которая принадлежит к ὁμοίωσις, чья сущность исконно входит в сущностную сферу ἀλήθεια. Раскрывающееся самоуподобление несокрытому, совершающееся внутри несокрытости, представляет собой шествие, хождение вдоль, а именно вдоль того пути, который направляет и сопровождает прямо (ὀρθός) к несокрытому. Ὀμοίωσις есть ὀρθότης. По-гречески помысленное ὀρθός изначально не имеет ничего общего с римским rectum и немецким recht как «правильным». К сущностной сфере того, что обозначается словом πράγμα, то есть к сфере сущностно понятого действия, принадлежит путь, ведущий прямо «к несокрытому». Поскольку застилающее облако наводит мрак, путь, «высматривающий» несокрытое, уже не так ясен и потому не позволяет прямо к нему прийти. Таким образом, облако как бы искривляет этот путь, совершающийся в сфере действия (παρά — рядом, но мимо), направляет его вне, мимо того, что приносится пред-мыслием, со-мыслием и припоминающей мыслью, направляемыми благоговейным приязненным страхом. Перемещенный в сокрытие как такое помрачение, человек определенным образом находится вне несокрытого.
Сказанное об облаке намекает на то, что сущность забытия нельзя понимать как нечто сообразное одному только переживанию, однако не менее существенным является и поэтическая характеристика скрывающего облака. О нем сказано, что оно ἀτέκμαρτα. Это облако никак не очерчено, никак не обо-значено, то есть речь идет о том, что самое себя оно совершенно не показывает. Такое сокрытие как помрачение само удерживает себя в сокрытом. Всякое помрачение все еще оставляет позади некую ясность, которая, рассмотренная как таковая, может «появляться» как единственная. В том, что облако погружающего в забвения сокрытия само как таковое тоже скрывается, проявляется страшная суть забывания. Оно само уже совершается в забвении. Когда мы нечто забываем, мы уже не присутствуем при этом забывании: мы находимся «в стороне», мы «увлечены в сторону». Если бы мы «присутствовали» при забывании, мы должны были бы и могли бы все еще удерживать забытое, и тогда бы вообще никакого забывания не совершалось. Сначала забытие должно вытолкнуть нас самих из нашей собственной бытийной сферы, чтобы мы больше не могли оставаться при том, что должно выпасть в забвение. Только благодаря поясняющему слову ἀτέκμαρτα (т.е. будучи «никак не обозначенным» в смысле: «не показывая себя», «скрывая себя самого») улавливается суть заволакивающего сокрытия, свойственного забвению. Тем не менее и теперь мы все-таки не исчерпываем по-гречески понимаемой сущности «никак не обозначенного» и, следовательно, сущности забытия как сокрытия.
Τέκμαρ — это знак, показывающее (Zeigende), которое, показывая себя, одновременно показывает, как обстоят дела с сущим, причем в данном случае дело касается и должно касаться отношения человека к этому сущему. Немецкое слово «признак» (Wahrzeichen) годилось бы для перевода греческого τέκμαρ, если бы «истинное» (Wahre) мы осмысляли по-гречески. Таким образом показывающее и несокрытое, указующее может также означать «цель», но для греков сущность «цели» выражается в ограничении, определении направления и «дальности» человеческого отношения. В современном понимании «цель» — это просто некая «промежуточная остановка» в море безгранично наращиваемых успехов и предприятий. Что касается границы (πέρας) в греческом понимании, то она — не предел, по достижении которого нечто прекращается: граница есть то, куда это нечто начинает возникать, будучи ему внутренне присущим как тому, что так-то и так-то «оформляет» это возникшее, то есть позволяет ему обрести форму и дает возможность присутствовать сложившемуся как постоянному. Там, где нет ограничивающего, нечто не может присутствовать в том, что оно есть. Ἀτέκμαρτα νέφος, никак не обо-значенное облако, то есть то облако, которое успевает скрыть свое собственное присутствие, является непоказывающим себя, отсутствующим сокрытием. Теперь мы начинаем что-то смутно понимать в природе «забвения», и потому было бы неплохо еще раз заострить внимание на основных моментах.
Итак, забывание как вид сокрытия — это событие, которое захватывает сущее и человека в его отношении к этому сущему. Забытие совершается в сущностной сфере действия. Забывание — это не «субъективное переживание» и не «субъективное состояние» в смысле «потери памяти» и тому подобного. Это сокрытие затрагивает не только прошлое, но и настоящее и, прежде всего то, что приближается к человеку в мысленном предвосхищении, а также то, что привходит в его поведение как предоставленное наставление. По этому наставлению выверяется путь человека, если он намечается благоговейной приязнью и пролагается несокрытым. Тогда этот путь представляет собой направленный ὀρθὰ ὁδός. Только пролегая в несокрытом, этот путь ведет прямо к несокрытому и является направленным. Только тогда, когда он таким образом направлен, он правилен. Свою сущностную возможность и сущностное основание правильное (das Rechte) имеет в раскрытии несокрытости. Поскольку в греческой мысли ὀρθός (напрямик, вдоль) господствует и бытийствует по отношению к несокрытому лишь в самом несокрытом, всякое при-правление, при-ставление и «при-лагание» в смысле определяющего указания становится возможными только там, где скрывание и за-ставление не совершаются, то есть где не происходит никакого λανθάνειν. Поэтому в том отрывке, где Гесиод говорит о Нерее как о ἀψευδέα καὶ ἀληθέα (то есть как о не-заставляющем и не-утаивающем), он также говорит, что тот οὐδέ θεμιστέων λήθεται (то есть как таковой не находится в сокрытости по отношению к при-лагаемым наставлениям). (О θέμιστες и θέμις речь пойдет тогда, когда мы вернемся к упомянутому отрывку из Парменида. В то же время о θέμις вообще ничего нельзя сказать без предварительного размышления над сущностью «полагания» (θέσις), которое надо мыслить по-гречески).
В опыте греков забывание — это не некое субъективное состояние; кроме того, оно не связано только с прошлым и «памятованием» о нем и вообще не касается одного только мышления в смысле «пред-ставления». Сокрытие помещает всего человека в сокрытое и таким образом вырывает его из несокрытого. Человек «уносится» из несокрытого, он больше не присутствует при нем. Он как бы пренебрегает предназначенным ему, не исполняет его. Сокрытие настигает его и влечет в сторону от πραγμάτων ὀρθὰν ὁδὸν. Забывание — это больше-не-присутствие-при (Nicht-mehr-dabei-sein). Оно ни в коей мере не является одним только основанным на представлении больше-не-припоминанием. Возникает соблазн сказать, что греки осмысляли забывание не только в ракурсе познания и знания, но и в перспективе «практического» поведения, однако, говоря такое, мы уже мыслим не по-гречески, потому что сокрытие с самого начала охватывает всё бытие-при (Dabei-sein) человека при сущем. Только потому, что это так, забывание сразу одинаково глубоко захватывает «теоретическое» и «практическое» поведение человека.
Разъяснив сущность забвения как сокрытия и учитывая все, что сразу же может из этого последовать, мы подытоживаем наши размышления в таком «определении»: Λήθη, забвение, есть то сокрытие, в котором прошлое, настоящее и будущее становятся на путь самоотсутствующего бытийного отсутствия, в результате чего сам человек перемещается в сокрытость по отношению к этому ускользанию и отъятию, причем перемещается так, что это сокрытие, со своей стороны, в целом никак не проявляется. Λήθη скрывает, уводя и отъемля. Оно отъемлет в силу того, что, утаивая самое себя, позволяет несокрытому и его раскрытию стать на путь впадения в укрытое отсутствование, убывание бытия.
ПОВТОРЕНИЕ
2) Взаимосвязь бытия, слова, чтения-собирания, руки и письма.
Вторжение пишущей машинки в сферу слова и рукописи.
Техника как следствие изменившегося отношения бытия к человеку.
Большевизм как мир, изначально полностью технически организованный.
Мышление и поэзия греков в ὰλήθεια и λήθη
Итак, λήθη есть сокрытие, причем такое, которое сразу пронизывает вещи и человека в их взаимосоотнесенности и каким-то образом так всё извлекает из имеющейся несокрытости, что само сокрытие при этом ускользает. Рассмотренный нами отрывок из VII Олимпийской оды Пиндара в равной мере свидетельствует как об облакоподобной и одновременно никак не обозначенной сущности λήθη, так и о том, что это своеобразное сокрытие пронизывает πράγματα и охватывает именно их. Здесь, правда, важно иметь в виду, что под πράγμα подразумеваются не вещь и не деятельность (πράξις) как таковые в их раздельном существовании. Слово τὰ πράγματα в данном случае скорее обозначает исконно нераздельное и целостное взаимоотношение вещей и человека. Мы переводим πράγμα как «рукодействие». Это слово означает не человеческую деятельность (actio), но тот единый способ, каким те или иные вещи оказываются «подручными» и «сподручными», то есть связанными с рукой, и каким тот или иной человек в своем поведении, то есть как действующий рукой, руко-действующий, оказывается в отношении к под-ручному.
Отсюда становится ясно, каким образом рука в своем существе сохраняет «при себе» взаимосвязь между «сущим» и человеком. «Рука» есть только там, где сущее как таковое появляется несокрытым и человек раскрывающим образом относится к этому сущему. Рука, подобно слову, сохраняет отнесенность бытия к человеку и только через это — отношение человека к сущему. Рука рукодействует. Она удерживает в заботе действие, а также то, что являлось предметом ее воздействия и подверглось обработке. Поэтому если что-либо сущностное было существенным образом сохранено, мы говорим о том, что оно попало «в хорошие руки», даже если нет никакой необходимости напрямую прибегать к каким-либо ручным приемам и навыкам. Сущностная взаимопринадлежность руки и слова как сущностное же отличие человека от других существ проявляется в том, что, указывая, выражая указанное в знаке и этим означением образуя указывающие знаки в образное строение, рука раскрывает сокрытое. В соответствии с «глаголом» γράφειν (писать) мы называем это строение γράμματα. Слово, показанное рукой и появляющееся в таком знаковом показании, является рукописанием, рукописью. Мы до сих пор называем учение о языковом строе «грамматикой».
В своем сущностном происхождении письмо есть руко-пись. Раскрывающее восприятие написанного слова, внимание ему мы называем «чтением» (Lesen)[xi], то есть собиранием («собирать колосья»): по-гречески: λέγειν — λόγος. Однако в изначальном мышлении это слово именует само бытие. Бытие, слово, чтение-собирание, письмо обозначают исконное сущностное единство, которому принадлежит показывающе-пищущая рука. В рукописании отнесенность бытия к человеку, а именно слово, «вписывается» в само сущее. Происхождение и манера письма уже в себе самих определяют характер отнесенности бытия и слова к человеку и тем самым отношение человека к сущему, а также то, каким образом человек и вещь находятся в несокрытом или лишены его.
Когда письмо лишается своего сущностного происхождения, то есть руки, которой оно совершалось, когда написание начинает осуществляться пишущей машинкой, тогда в отнесенности бытия к человеку совершается перемена, причем не так важно, сколько человек пользуются пишущими машинками и сколько этого избегают. Изобретение печатной машины не случайно приходится на начало Нового времени. Знаки, составляющие слово, превращаются в буквы, почерк исчезает. Буквы «набирают», а набранное «печатают». Набор и «печатание» предшествуют появлению пишущей машинки, с приходом которой механизм вторгается в сферу слова. Пишущая машинка возвращает к наборной машине. На смену обычной печати приходит ротационная, в которой машина достигает триумфа. Создавая определенные удобства и давая некоторые преимущества, сначала книгопечатание, а потом и машинопись внезапно вызывают спрос на такой вид письменного сообщения и создают потребность в нем. Пишущая машинка затемняет сущность писания и рукописи. Она приводит к тому, что рука человека утрачивает свое сущностное достоинство, причем человек как следует этого не осознает и не понимает, что здесь уже изменился характер отнесенности бытия к существу человека.
Пишущая машинка — это то самое никак не обозначенное облако, то есть — при всей своей назойливости — ускользающее сокрытие, в котором изменяется отнесенность бытия к человеку. Это сокрытие на самом деле никак не дает о себе знать, никак не очерчивает, не показывает себя в своей сущности, и потому большинство из вас, как показала ваша доброжелательная «реакция», даже не заметили, о чем тут надо было «сказать».
Сказанное, конечно, не является докладом о машинописи, а если бы такой доклад и случился, то вполне правомерно было бы спросить, что же общего у машинописи с Парменидом. Пришлось бы сказать, что машинопись породила новоевропейское отношение руки к письму, то есть к слову, и, следовательно, к несокрытости бытия, а размышление о несокрытости и бытии, конечно же, напрямую и самым существенным образом связано с дидактической поэмой упомянутого автора. В «пишущей машинке» машина, то есть техника, заявляет о себе в почти повседневном и поэтому незаметном и никак не обозначенном отношении к письму, то есть к слову и, следовательно, к сущностной отличительной особенности человека. Здесь следовало бы более основательно поразмыслить о том, что пишущая машинка еще не является машиной в строгом смысле машинной техники: она есть некая «промежуточная вещь» между ручным орудием труда и собственно машиной, механизмом. Тем не менее ее изготовление обусловлено машинной техникой.
Эта «машина», находящаяся в ближайшем соседстве со словом, принята к использованию; она напирает на слово. Даже там, где эта машина не используется, она все равно заставляет обратить внимание «на себя» — хотя бы тем, что мы от нее отказываемся и стремимся обойтись без нее. Такая ситуация всегда и везде вновь и вновь дает о себе знать во всех отношениях новоевропейского человека к технике. Техника вошла в нашу историю.
Имеющий уши, то есть способный улавливать метафизические основы и бездны истории и всерьез относиться к ним именно как к метафизическим, мог уже два десятка лет услышать сказанное Лениным: большевизм есть советская власть + электрификация. Это значит, что большевизм есть «органический», то есть математически организованный (о чем говорит и +) союз безусловной власти партии с полной механизацией. Буржуазный мир не видел и в какой-то мере не видит и сегодня, что в «ленинизме» (так Сталин называл эту метафизику) совершился метафизический рывок, из которого только и становится в какой-то степени понятной метафизическая страсть нынешних русских к технике, приводящая к власти технизированный мир. Решающим оказывается не то, что русские строят, например, все больше тракторных заводов, а то, что уже с самого начала полная техническая организация мира становится метафизической основой всякого планирования и развития и что эта основа постигается безусловным и исчерпывающим образом и привносится в трудовое свершение. Осознание «метафизической» сущности техники становится для нас исторически необходимым, коль скоро надо и впредь спасать существо западного исторического человека.
Техника, понимаемая как современное, то есть энергетическое машиностроение, сама является сущностным следствием, а не причинной изменения, произошедшего в отношении бытия к человеку. Современная машинная техника — это «метафизический» инструментарий такого изменения, намекающего на скрытую сущность техники, как бы врастающую в то, что уже греки называли словом τέχνη. Быть может, проявившееся в технике измененное отношение бытия к человеку выражается в том, что бытие ускользнуло от него и новоевропейский человек погрузился в своеобразное забвение бытия (в результате которого он уже не может и, прежде всего, еще не может о-смыслить вопрос, поставленный в «Бытии и времени»).
Наверное, часто обсуждаемый вопрос о том, порабощает ли техника человека или делает его господином, не глубок хотя бы потому что в нем не спрашивается, какой именно человек может «овладеть» техникой. Представители различных «философий техники» рассуждают так, как будто «техника» и «человек» — это две наличные обособленные «величины», две вещи; они не говорят о том, что уже способ, каким само бытие появляется и ускользает, решающим образом сказался на человеке и технике, то есть на отношении между сущим и человеком и, стало быть, на человеческой руке, слове и их сущностном раскрытии.
Поскольку, говоря о λήθη, мы спрашиваем об этом отношении бытия к человеку, нам надо (разъясняя сущность того, что греки называют словом πράγμα, то есть разъясняя сущность рукодействия руки) указать на феномен «пишущей машинки», коль скоро в глубинно мыслящем размышлении всегда есть мысль о нашей истории, то есть о сущности истины, в которой нам навстречу устремляется будущее.
«Обычно» «философию» считают «абстрактным» занятием, а когда неожиданно речь заходит о «машинописи», начинают говорить, что это отступление от темы, показывая тем самым, что никто даже и не подумал по-настоящему поразмыслить о столь достохвальном «конкретном», то есть войти в сущностную близость к вещам и преодолеть то сокрытие, в которое люди ввергаются в результате их простого употребления и расходования. Разговор о λήθη и машинописи — вовсе не отступление от темы для того, кто не потонул в забвении бытия.
Согласно Пиндару противосущностью αἰδώς — то есть благоговейной трепетной приязни, из которой само бытие находится на страже своей сущности, указующей сущему и человеку путь в сторону ἀλήθεια — является λάθα. Поэтическое слово Пиндара о λήθη свидетельствует о том, что греки с самого начала постигают сущностное борение между ἀλήθεια и λήθη, и потому можно было бы ожидать, что их сущностная взаимосвязь столь же исконно продумывается и вводится в мышление. Однако такие ожидания напрасны. В эллинстве ни ἀλήθεια, ни λήθη никогда не становятся предметом специального осмысления, никогда не ставится вопрос об их собственной сущности и их сущностном основании: не становятся потому, что они предшествуют всякому мышлению, всякой поэзии — как та «сущность», которая уже заранее пронизывает собою все, о чем надо по-мыслить. Греки мыслят, пишут стихи и «действуют», уже находясь в сущности ἀλήθεια и λήθη, но они не думают об этой сущности, не сочиняют на ее тему и не «действуют» по отношению к ней как к чему-то отстраненному. Им достаточно того, что ἀλήθεια сама обратилась к ним и захватила их собою. В своем начале эллинство не ощущало нужды специально размышлять о сущности ἀλήθεια и λήθη, и это является знаком той необходимости, которая над ним тяготела. Когда же в эпоху его завершения каким-то образом начинается процесс размышления «об» ἀλήθεια, именно это начало также становится знаком завершения. Что касается истории новоевропейского мира и его поколений, то здесь ситуация иная.
Но если случается так, что в кругу мыслящего эллинского сказывания ἀλήθεια и λήθη называются специально, тогда это сказывание получает вид изначального сказания и есть не что иное, как μΰθος.
§ 6. Последнее сказание эллинства о сокрытой противосущности ἀλήθεια,
то есть о λήθη (Ι): заключительный миф Платоновой «Политейи».
Миф о сущности «полис». Разъяснение сущности демонического.
Сущность греческого божества в свете ἀλήθεια. «Взор» не-привычного
α) Πόλις как полюс определяемого из ἀλήθεια
присутствия сущего. Софокл.
Отражение самопротивоборствующей сущности ἀλήθεια в противосущности πόλις, а именно в ἄπολις. Буркхардт
В «Теогонии» Гесиода говорится о том, что λήθη произошла из ἔρις (раздора) и νύξ (ночи), а в VII Олимпийской оде Пиндара проясняется одна решающая сущностная связь. Никак не обозначенная «облакоподобность» λήθη указывает на ее собственное себя самое скрывающее и при этом ускользающее и отъемлющее укрытие. Это многообразное укрытие и готовность к исчезновению довольно ясно говорит о сущностном происхождении λήθη. В ней есть нечто от ночи. Ночь укрывает, но она не обязательно погружает все вокруг просто во мрак. Существенная особенность такого укрытия заключается скорее в том, что она предает сокрытию как вещи, так и человека, а также вещи и человека в их взаимоотношении. Поэтому нельзя сказать, что, следуя своей «ночной» сущности, забытие постигает только человека как обособленное живое существо, чтобы просто каким-то образом изменить его способ восприятия и сделать так, чтобы он перестал замечать предметы.
Забытие одновременно вырывает из несокрытости и вещи, и человека, причем так, что «забывающий» начинает бродить в той области, где сущее ускользает от него, а он — от сущего, и вдобавок это взаимное исчезновение как отношение ускользает от несокрытости.
Можно было бы ожидать, что там, где забытие постигается как ускользающее и отъемлющее сокрытие, взаимосвязь между λήθη и ἀλήθεια не только называется, но и специально осмысляется, что она даже остается предметом размышления прежде всего остального. Однако это ожидание, которое, кстати, является именно нашим, а не греческим, не оправдывается. Тем не менее сущностное борение между ἀλήθεια и λήθη властно пронизывает собою все сущее в целом, находясь посреди которого греки и выносят свою историю. Кажется, что только в эпоху завершения эллинства, в ту эпоху, которая не является его вершиной, но, скорее, представляет собой высшую точку в переходе к концу — именно в эту эпоху то, что и так всегда было близко и постигалось как таковое, намеренно приходит в слово. В мышлении Платона эллинство завершается. В мышлении Аристотеля это завершение достигает своего максимально возможного знания и сказывания.
Итак, если допустить, что в λήθη как противосущности ἀλήθεια правит изначальная противоположность «истине», если одновременно допустить, что в сущности этой противоположности обнаруживается нечто от сущности самого бытия, тогда сказывание, изначально сказующее эту противосущность к ἀλήθεια, то есть сказующее λήθη и тем самым ее собственную сущность, может быть только словом по способу изначального сказывания. А это и есть μΰθος.
В эпоху завершения греческого мышления, в мышлении Платона, мыслящее сказывание обретает форму «диалога». Как будто перед концом греческого мышления оно само еще раз хочет на свой лад засвидетельствовать, каким сущностным достоинством обладает слово там, где человек вступает в непосредственное отношение к ἀλήθεια. Из диалога «Федр», в котором (а именно в его заключительной части) говорится о «прекрасном», мы, помимо прочего, узнаéм, что Платон довольно ясно понимал, насколько вживую сказанное слово превосходит слово написанное. Но где были бы его «диалоги», если бы и они не стали этим написанным?
В «диалоге», который по своему содержанию и значимости является самым внушительным, речь идет о πόλις. Римляне говорят о res publica, то есть о res populi и, стало быть, о весьма самобытном деле, которое касается организованного и обустроенного народа и им осуществляется. Обычно упомянутый диалог мы называем «Государством», но различие между новоевропейским государством, римской res publica и греческой πόλις так же существенно, как различие между новоевропейской сущностью истины, римской rectitudo и греческой ἀλήθεια. Данная параллель важна уже потому, что сущность греческой πόλις коренится в сущности ἀλήθεια. О связи между ἀλήθεια и πόλις можно догадаться и путем простого размышления, не вдаваясь в специальное рассмотрение. Ведь если ἀλήθεια как несокрытость определяет все сущее в его присутствии (то есть как раз по-гречески в его бытии), тогда, наверное, и πόλις (и именно она прежде всего) должна находиться в сфере этого определения через ἀλήθεια, коль скоро данная πόλις подразумевает то, в чем греки обладают средоточием своего бытия.
Но что такое πόλις? Если нам удается взять правильный, все разъясняющий сущностный ракурс на сущность бытия и истины, понимаемую по-гречески, это слово прямо указывает на свой смысл. Πόλις — это πόλος, то есть полюс: то место, вокруг которого в своеобразном круговороте вращается всё, что появляется перед греками как сущее. Полюс — это место, вокруг которого обращается всё сущее, причем так, что в этом месте обнаруживается, как обстоят дела с этим обращением и каков его характер.
Будучи таким местом, полюс дает сущему возможность проявиться в своем бытии во всей полноте соответствующего «оборота». Полюс не создает, не творит сущее в его бытии, но, являясь полюсом, предстает как средоточие несокрытости сущего в целом. Πόλις есть сущность места или мест-ность для исторического пребывания греков. Поскольку πόλις дает возможность так или иначе проявиться всей полноте сущего и войти ему в несокрытое своего «момента вращения», она, то есть πόλις, существенно связана с бытием сущего. Между πόλις и «бытием» царствует изначальная соотнесенность.
Однокоренным слову πόλις является древнегреческое слово, обозначающее «быть». Это слово πέλειν: «восходя, выступать в несокрытое» (см. «Антигону» Софокла, стихи 332— 333, где сказано: πολλὰ τὰ δεινὰ πέλει). Πόλις — это не город, не государство и тем более не их роковое смешение, рисующее заведомо несообразную картину, то есть не пресловутое «город-государство». Πόλις — это местность места (die Ortschaft des Ortes) истории греков: не город и не государство, а скорее средоточие их, греков, сущности. В этом сущностном средоточии исконно единится всё то, что бытийствует как несокрытое в своей обращенности к человеку и таким образом направляет себя ему как нечто такое, с чем человек в своем бытии остается глубинно соотнесенным. Πόλις есть собранное в себе средоточие несокрытости сущего. Однако поскольку, как мы уже знаем, ἀλήθεια отличается глубинным внутренним самопротивоборством и это противоборствующее проявляется также в том противоположном, чем характеризуется за-ставление и за-бытие, в πόλις как сущностном средоточии человека должна господствовать предельная противосущность, а в ней — вся не-сущность к несокрытому и сущему, то есть не-сущее во всем многообразии своей противосущности. Здесь сокрыта изначальная причина того явления, которое во всей его значимости и многоликости впервые описал Якоб Буркхардт: речь идет о том ужасном, страшном и бедственном, что отличает греческую πόλις. Это вознесение и крушение человека в его историческом сущностном средоточии: ὑψίπολις («возвышающийся в средоточии») и ἄπολις («лишившийся средоточия») — так Софокл («Антигона») характеризует человека. Не случайно так говорится о человеке в греческой трагедии, ибо только в силу внутренне противоборствующей в себе сущности, которую являет ἀλήθεια, появляется возможность и необходимость самой «трагедии» как таковой.
Существует только греческая трагедия и никакая другая. Только по-гречески постигнутое бытие имеет ту изначальность, в силу которой «трагическое» здесь становится необходимостью. Во введении к своим лекциям о «греческой истории культуры» Якоб Буркхардт намеренно приводит тезис, который он, еще будучи студентом, услышал в Берлине от своего учителя, филолога-классика Августа Бёка: «Эллины были несчастнее, чем принято считать». Потом эту мысль, которая влекла его скорее как предчувствие, Буркхардт положил в основу своего представления об эллинстве, изложенного им в базельских лекциях, не раз читанных начиная с 1872 года. Ницше, слушавший их, имел свой конспект, который был ему очень дорог. Правда, в ту пору он понимал природу эллинства и греческой πόλις по-римски, чему, кстати, способствовал сам Буркхардт, потому что рассматривал их в ракурсе «греческой истории культуры», под которой понимал «историю греческого духа» (Введение, S. 3). Но понятия «духа» и «культуры», как бы их ни определяли, всегда остаются представлениями новоевропейского мышления, на которые особый отпечаток наложил тот же Буркхардт, воспринимавший их в ракурсе открытого им «итальянского ренессанса». При таком подходе в его историческое мышление вливаются принципиально римские, романские и новоевропейские понятия. Буркхардт осмысляет историю в целом в контексте трех «потенций»: «государства», «религии» и «культуры». Государство, понятое по-новоевропейски, есть образование, преисполненное власти, держава. Буркхардт разделяет точку зрения Ф. Шлоссера, согласно которой «власть в себе есть зло». С момента своего появления этот тезис часто и на разные лады повторяется. Власть называют «демонической», не думая ни о сущности власти, ни о том, что здесь означает «демоническое». Характеристика власти как «злой» и «демонической» — это метафизическая оценка того, что в своей метафизической сущности остается неопределенным. Рассмотрение таких вопросов даже отдаленно не затрагивает сущности πόλις. Греческой πόλις сущность власти чужда, и потому характеристика власти как «злой» здесь просто беспочвенна. В новоевропейском государственном мышлении сущность власти основывается на метафизической предпосылке, согласно которой сущность истины стала достоверностью и, следовательно, самодостоверностью утверждающегося на самом себе человеческого существа, основополагающая черта которого — субъективность сознания. Никакое современное понятие «политического» недостаточно для того, чтобы уловить сущность греческой πόλις.
b) Подготовка к вынужденному проходу через замечания к Платонову диалогу
о λήθη и πόλις. Лад: Δίκη.
Смертоносный ход пребывания в полисе и присутствование сущего после смерти.
Христианский платонизм. Гегель
Но, наверное, ἀλήθεια проливает соответствующий и потому озаряющий свет на существо πόλις, и мы получаем возможность увидеть, почему в этой πόλις как сущностном средоточии пребывания исторического человека с необходимостью господствует не-сущность и тем самым — не-благо. Оно принадлежит природе πόλις потому, что вся несокрытость сущего находится в противоборстве с сокрытием и, следовательно, с за-ставлением и искажающим вы-ставлением. Но если сущность несокрытости и сокрытия властно пронизывает собою сущностное средоточие исторического человека, тогда и в греческой беседе о πόλις с необходимостью (при том условии, что это мыслящая беседа) должна зайти речь и о сущности ἀλήθεια. В начале VII книги своего диалога о πόλις Платон говорит (причем говорит как бы рассказывая μΰθος) об ἀλήθεια. Этот «миф» известен под именем «притчи о пещере». Ей приписывали самые разные значения, но никогда не усматривали в ней простого и самого близкого смысла. В этой «притче», о чем, собственно, говорит и ее название, речь идет о пещере, то есть об утаивании, сокрытии и несокрытости. В конце X книги этот же диалог Платона о πόλις, содержащий μΰθος об ἀλήθεια, завершается другим «мифом», достигающим высшей точки в сказании о λήθη (Платон, Государство, X, 614 b2-621 b7).
Миф о λήθη, которым завершается диалог о πόλις, очень динамичен, весьма богат по своему содержанию, и уже по одной этой причине его невозможно здесь пересказать. Любое изложение, остающееся простым сообщением и не притязающее на последовательное истолкование, так или иначе оказывается злом. Чтобы дать такое истолкование, нам недостает самого существенного: понимания основной черты мифа вообще и ее связи с метафизикой Платона. Только отсюда может начаться толкование отдельных особенностей упомянутого μΰθος. Здесь мы должны сделать крюк, чтобы добраться до того, что нам надо. Мы в общих чертах схватываем главные особенности, надеясь уловить основную черту целого хотя бы в одном отношении. Это равнозначно постановке вопроса о том, как выглядит λήθη во всей целокупности этого мифа, то есть в какой мере этому целому можно дать именование λήθη. Весь этот миф застроен и задавлен диалогом о πόλις. Β πόλις как сущностном средоточии исторического человека, которое раскрывает сущее в целом и скрывает его, этого человека своим бытием окружает все то, что к нему, в строгом смысле слова, при-лажено (zu-gefügt), но вместе с тем и удалено от него. «При-лаженное» мы здесь понимаем не во внешнем смысле чего-то «до-бавленного» и «причиненного», а в значении приданного существу человека в качестве чего-то такого, что присуще этому существу в его бытии, так что это существо оказывается как бы впущенным в это бытийно присущее ему и могущим быть ладно встроенным в него, в результате чего человек должен наладить свое вхождение туда, чтобы его существо охладилось по отношению к этому ладу. Таким образом при-лаженное к человеку, себя-прилаживающее к нему и ладящее его самого мы называем одним словом лад, по-гречески δίκη.
Мы видим, что в уже переведенных стихах из первого фрагмента дидактической поэмы Парменида δίκη соседствует с θέμις. Если мы переведем слово δίκη, в котором для грека тут же слышатся δείκνυμι («показывать», «указывать»), а также δικεΐν («бросить»), если мы переведем его словом «лад», то нам припомнится известный антоним к нему, а именно «разлад». Однако тот «лад», о котором здесь идет речь, — это не просто некое противосущество какому-то представляемому нами «раз-ладу». «Лад» мы мыслим как указывающее, показывающее, при-казывающее (в смысле давания «каза», «показа») и одновременно на-казывающее (в смысле давания «наказа» как наставления), «набрасывающее» налаживание (das Fügen). То, во что человек должен себя наладить, является именно тем, из чего он одновременно может выйти, уклониться в нескладное (das Ungefüge), особенно тогда, когда упомянутое при-казание скрывается и от-падает, каковое от-влекающее (влекущее прочь) отпадение вырывает человека прочь из той πόλις, в которой он находился, так что он становится ἄπολις. Восхождение человеческого существа в лад и внутреннее нахождение в этом ладе, δίκη, есть налаженность (Fügsamkeit) (δικαιοσύνη). Налаженность здесь понимается как неутаенность для лада, которая не скрывает его. Поэтому в диалоге о πόλις речь должна вестись об этом сущностном средоточии в том плане, что именно в этом средоточии происходит, как именно в нем находится человек. Ведущей темой «Политейи» является δικαιοσύνη. В зависимости от того, есть ли налаженность по отношению к ладу или она отсутствует, человек может представать как «ладный» (der Fügsame) (δίκαιος) или как «неладный», (der Ungefüge) (ἄδικος). В размышлении о πόλις, в конце концов, встает вопрос о том, что именно при-лажено «ладному» и «неладному» для его стоянии в этой πόλις, в этом сущностном средоточии его исторического бытия: чтó как бы остается вокруг него в качестве того, что налаживает его человеческую сущность.
Итак, стояние внутри такой πόλις является местопребыванием человека здесь, на земле, ἐνθάδε; тем не менее это пребывание в πόλις в каждом случае представляет собой περίοδος θανατοφόρος, то есть «смертоносный оборот» (ср. X, 617 d7), перспективный, «высматривающий» путь и ход, который промеривает и отмеривает всю округу того временнóго промежутка, который отведен человеку для пребывания на земле. Этот промеривающий ход смертоносен (θανατοφόρος), он влечет за собой смерть и потому ведет к ней. Тем не менее этот смертоносный ход человека через сущностное средоточие истории не исчерпывает его путь и странствие, то есть вообще его бытие. Согласно учению Платона прохождение человека через βίος (жизнь), его «жизненный путь» не является одним-единственным: спустя какое-то время человек в новом облике возвращается для того, чтобы снова начать этот путь. В истории религии такое учение называется учением о «переселении душ», но и здесь мы постараемся остаться в горизонте греческого мышления, и тогда прежде всего нам станет ясно, что при любом завершении упомянутого смертоносного хода бытие человека не приходит к концу. Это значит, что, отвечая глубинному существу человека, даже после той или иной его смерти, вокруг него каким-то образом остается и присутствует сущее. Поэтому, в конечном счете, размышление о πόλις приходит к такому вопросу:
ἃ τελευτήσαντα ἑκὰτερον περιμέὰνει (Χ, 614а 6).
Что продолжает окружать обоих (как «ладного», так и «неладного») после того как они завершили смертоносное прохождение? Что окружает человека, когда он оказывается в стороне от того «здесь», которое было характерно для πόλις, и оказывается «там», ἐκεΐ? Что окружает человека, где он находится перед тем, как пуститься в новый путь?
В соответствии с привычными для нас, то есть в самом широком смысле «христианскими» представлениями ставится вопрос о «потустороннем». Христианство довольно рано, через иудейско-эллинистические учения на свой лад овладело платоновской философией и позаботилось о том, чтобы и по сей день эта философия, преподносившаяся как высшее проявление всей греческой философии, воспринималась в свете христианской веры. Мыслители, предшествовавшие Платону и Сократу, воспринимались в контексте Платона, что дает о себе знать и в привычном их определении: о них говорят как о «доплатоновской» философии, а сохранившиеся отрывки из их трудов называют «фрагментами досократиков». Греческая философия не только предстает в христианском теологическом истолковании, но и в самой философии воспринимается как первая ступень западноевропейского христианского мышления: в первом метафизическом историческом размышлении над западным мышлением в его целом, а именно в лекциях Гегеля по истории философии греческая философия понимается как этап непосредственного, еще не опосредованного и не пришедшего к себе самому мышления. Только последнее, удостоверенное в самом себе и в новоевропейском смысле первейшее «истинное» мышление есть также мышление действительное. На пути к нему христианство выступает как опосредствующая ступень. Даже там, где историческое исследование XIX в., сохраняя все основные понятия Гегеля, но в то же время впав в удивительный самообман, отвергает его «метафизику» и устремляется к «Шопенгауэру» и «Гете», даже там греческая философия вообще и философия Платона в особенности предстают в горизонте христианского платонизма. Это относится и к Ницше, чье пресловутое толкование «доплатоновской» философии оказывается платоновским, то есть шопенгауэровским и совершенно негреческим. Но так и хочется спросить: разве то истолкование философии Платона, которое приступает к ней, вооружившись «платонизмом», не является самым адекватным? Нет, такой подход напоминает стремление «объяснить» свежий лист, растущий на дереве, с помощью павшей на землю листвы. Дать подлинно греческое истолкование платоновского мышления — труднейшая задача, и не только потому, что оно таит в себе какие-то особые темноты и бездны, но потому, что последующие поколения и мы, сегодняшние, склонны отыскивать в этой философии именно свое, позднейшее. На этих лекциях нам придется расстаться с надеждой хотя бы просто назвать основные предпосылки собственно греческого истолкования платоновского мышления, и потому следующие замечания о платоновском μΰθος, в котором повествуется о λήθη, — лишь вынужденная мера.
ПОВТОРЕНИЕ
1) Политейя: τόπος существа πόλις.
Сущностно неполитическое, характерное для политейи полиса.
Полюс совершающегося в πέλειν.
Невозможность толкования «полиса» в ракурсе «государства», δίκη и iustitia.
Смерть: переход от «здесь» к «там». Платонизм
Итак, мы размышляем о существе, противоположном существу ἀλήθεια, то есть истины как несокрытости. Изначальным противосуществом к ἀ-λήθεια является λήθη, то есть никак не обозначенное сокрытие как забытие. Последнее слово эллинства, именующего λήθη в ее существе, есть тот μΰθος, которым завершается диалог Платона о πόλις.
В мыслящем диалоге всегда речь идет о бытии сущего, и таким образом, диалог Платона о πόλις не может быть беседой о какой-то обособленной πόλις, находящейся здесь и там. Мыслитель мыслит то, что есть πόλις как таковая; он говорит о том, что она такое в своем бытийствовании и как именно бытийствует. Это бытийствующее, а именно то, что есть, собственно, сама πόλις в полноте ее собственных сущностных связей, называется πολιτεία. Подлинно мыслящий диалог о πόλις с самого начала есть диалог только о πολιτεία. Об этом говорит и заголовок, который, правда, не однозначен. Подобно тому как греческое слово οὐσία, употребляясь в повседневном языке и обозначая «имущество», «собственность», «добро», одновременно становится термином мыслящего сказывания и подразумевает присутствие всякого присутствующего, πολιτεία в том же повседневном языке означает принадлежащую к πόλις, определяющуюся в ее ракурсе жизнь; означает совершающуюся в ней деятельность и, соответственно, свойственный ей строй, из которого затем постигается нечто похожее на «конституцию», «устроение», причем под последним не следует понимать перечень записанных положений и правил, хотя в то же время слово как таковое исконному «устроению» столь изначально принадлежит, что не может выражать лишь некие добавочные, второстепенные «формулы» и «формулировки». Когда же Платон выносит слово πολιτεία в заголовок своего диалога о πόλις, это значит, что здесь речь пойдет о сущностной структуре «политейи» как таковой и тем самым о существе πόλις в целом.
Выяснили, что эта платоновская πολιτεία «на самом деле» нигде не существует и, следовательно, ее надо называть «утопией», «чем-то таким, что не имеет места». Это открытие «правильно», правда, с той оговоркой, что само оно не понимает, что здесь открыто. Смысл в том, что «на самом деле» бытие сущего нигде не наличествует в сущем наподобие одного из его частей, и потому бытие тоже можно было бы назвать «утопией». Тем не менее именно бытие и только оно предстает как τόπος (место) для всего сущего, и тогда платоновская «Политейя» — не «утопия», а как раз нечто прямо противоположное, а именно метафизически определенный τόπος сущности πόλις. Его политейя — это припоминающее вхождение в сущностное, а не планирование в фактическое.
Πόλις есть сущностное средоточие исторического человека, то самое «где», которому человек принадлежит как ζῴον λόγον ἔχον, то единственное место, откуда к нему при-лаживается лад (строй) в который он встроен, с которым улажен. Поскольку πόλις есть то самое «где», в качестве которого и в котором этот лад раскрывается и скрывается, поскольку πόλις есть тот способ, каким раскрытие и сокрытие лада имеет место, причем так, что в этом своеобразном место-имении исторический человек одновременно приходит к своей сущности и не-сущности, мы называем πόλις (в котором бытие человека собралось, сосредоточилось в его отнесенности к сущему в целом) сущностным средоточием исторического человека. Всякое πολιτικόν, все «политическое» — это всегда и прежде всего сущностное следствие, вытекающее из πόλις, то есть из πολιτεία. Сущность того, что обозначается словом πόλις, а именно πολιτεία, сама не определяется «политически» или, по крайней мере, не сводится только к «политическому». В πόλις так же мало «политического», как в самом пространстве — чего-то пространственного. Сама πόλις — это только полюс того, что обозначается словом πέλειν, только способ, каким бытие сущего в своем раскрытии и сокрытии определяет для себя то «где», в коем остается собранной история человечества. Поскольку греки по своей сути являются совершенно неполитическим народом, поскольку их человеческая природа изначально определяется только в ракурсе самого бытия, то есть из ἀλήθεια, только они могли и именно они должны были прийти к основанию πόλις, основанию таких мест, в которых имеет-место собирание и сохранение ἀλήθεια.
Бессмысленная деятельность «историографического» «исследования», стремящегося смешать в одну историческую «кашу» различные по своей сути эпохи и уклады западноевропейской истории, смешать между собой греческое, римское, средневековое, новоевропейское и современное, приводит к результату, прямо противоположному тому, который якобы достигнут. В таком «исследовании» мы стремимся к историческому осмыслению своего собственного исторического предназначения, но осмысление никогда не дается поверхностной мысли. История никогда не открывается историографическому исследованию, потому что оно каждый раз уже предполагает какой-то взгляд на эту историю, взгляд непродуманный, как бы само собой разумеющийся, который такое исследование хотело бы подтвердить и тем самым лишь укрепить это непродуманное само собой разумеющееся.
Подобно тому как πόλις нельзя разъяснять в контексте новоевропейского понятия «государства» или римского понятия res publica, греческую δίκη нельзя толковать в ракурсе новоевропейского понятия «справедливости» и римского понятия iustitia. Являясь тем «ладом», который «улаживает» человечество, как бы встраивая его в определенный строй отношений, δίκη обретает свою сущность из своего отношения к ἀλήθεια и не определяется из отношения к πόλις и через πόλις.
Любая πόλις исторически находится на земле, ἐνθάδε, здесь. «Жизненный путь» человека проходит ограниченный в пространстве и времени круг и представляет собой движение внутри этого круга: это περίοδος, причем θανατοφόρος, то есть «смертоносный оборот», несущий с собой смерть и потому влекущий к смерти. Смерть завершает тот или иной жизненный бег, но не полагает конец бытию человеческого существа. Смертью совершается переход от «здесь» (ἐνθάδε) к «там» (ἐκεΐ). Этот переход представляет собой начало путешествия, которое снова завершается в переходе к новому περίοδος θανατοφόρος. Возникает вопрос: что окружает человека и что остается с ним, после того как он завершил свой очередной смертоносный путь здесь на земле?
Если мы рассуждаем в христианском ключе, то тогда возникает вопрос о «потустороннем». Опасность христианского истолкования Платона, совершаемого вполне сознательно или неосознанно, появляется по разным причинам. Довольно рано его стали толковать и разъяснять в эллинистическом (через Филона) и прежде всего в неоплатоническо-христианском ключе (через Августина), и с тех пор контекст такого истолкования сохранялся несмотря на самые разные вариации. Даже там, где, как принято считать, христианские представления не оказывают своего влияния и Платона понимают в контексте гуманизма и классицизма (то есть якобы как «язычника»), все равно мыслят по-христиански, поскольку то же «языческое» непременно соотносится с «христианским» в противопоставлении ему. Ведь греки оказываются «язычниками» только с точки зрения христианства. Но даже там, где вообще речь не идет о различии между христианским и языческим, философию Платона постоянно мыслят в ключе платонизма. Казалось бы, что можно возразить против стремления мыслить Платона «платонически»? Разве это не самый адекватный и, во всяком случае, гораздо более «правильный» подход, чем толковать его философию с помощью философии Канта или Гегеля? Суть, однако, в том, что толковать Платона посредством какого-нибудь платонизма — дело гиблое. Поступать таким образом все равно что «объяснять» свежий лист, растущий на дереве, с помощью павшей на землю листвы.
с) Вопрос о «здесь» и «там».
Политейя, X, 614 b 2 и непроясненность
указания на миф
Итак, Платон проводит различие между ἐνθάδε и ἐκεί, которые мы осторожно переводим как «здешнее» и «тамошнее». Мы правильно делаем, оставляя в стороне «небеса», «ад», «преддверие ада» и «чистилище», но этого совсем недостаточно и недостаточно потому, что по своему «содержательному» оформлению «тамошнее» греков выглядит иначе и к тому же оно вообще по-иному «есть»: оно «есть» в соответствии с тем, как греки постигают бытие. До тех пор пока мы не сумеем о-смыслить своей мыслью природу этого бытия и осмыслить его в соответствии с его существом, упомянутое «тамошнее» останется для нас закрытым. Мы в растерянности стоим перед так называемой «преисподней», перед «Аидом» и присутствующими «там» «тенями». Люди быстро придумывают какую-нибудь «психологию привидений», не успевая задать простой вопрос: почему же там тени? Быть может, то «тенеподобное» бытия, с которым мы сталкиваемся в Аиде, связано с самим существом по-гречески постигаемого сущего и его несокрытостью? Как бы там ни было, но если предположить, что мы не вдаемся в ненужные частности и не стремимся выяснить, подобно историкам религии, кто же, если не «ангелы» и «черти», населяет «потустороннее» греков; если предположить, что мы готовы постичь, что в потустороннем, понимаемом по-гречески, не только сущее выглядит иначе, но и прежде всего само бытие; если предположить, что у нас есть смутные догадки в том смысле, что уже само греческое различение «здешнего» и «тамошнего» совершается внутри иного опыта бытия, — мы все равно не сможем уйти от самого назойливого вопроса, который звучит так: откуда же все-таки такой мыслитель, как Платон, вообще что-то знает о «тамошнем»?
Впрочем, наш, на первый взгляд, такой умный вопрос задается слишком поздно, потому что на вопрос о том, что именно в тамошнем как пребывающее окружает тех, кто совершил свое смертоносное прохождение через «здешнее», Платон отвечает с помощью μΰθος. В завершение диалога о πολιτεία он позволяет Сократу рассказать сказание. Уже давно и не раз исследователи терялись в догадках на тему того, почему вообще в Платоновых диалогах иногда всплывают «мифы». Причина кроется в том, что в своем мышлении он намеревается расстаться с изначальным мышлением во имя того, что позднее будет названо «метафизикой», но именно это начинающееся метафизическое мышление все-таки должно сохранять в себе припоминающее вхождение в изначальное мышление. Отсюда и возникает сказание.
В разговоре с Главконом Сократ рассказывает заключительный миф. Разговор начинается такими словами: Αλλʼ οὐ μέντοι σοι, ἠν δʼ ἐγώ, Ἀλκίνου γε ἀπόλογον ἐρώ, ἀλλʼ ἀλκίμου μέν ἀνδρός, Ἡρὸς τοΰʼ Αρμενίου, τὸ γένος Παμφύλου (Politeia, Χ, 614 b 2): «Я же расскажу тебе не «историю», выбранную для развлечения Алкиноя [имеется в виду царь феаков], но ἀπόλογον, повествование (оправдание) одного храброго мужа, Эра, сына Армении, родом из Памфилии».
В переводе невозможно передать игру слов между οὐ Ἀλκίνου γε ἀπόλογον и ἀλλή ἀλκίμου μέν ἀνδρός. В этой игре, которая вводит μΰθος, нет ничего шутливо-игрового: она призвана к тому, чтобы указать на сущность сказываемого здесь «логоса» (λόγος), то есть именно на μΰθος. Этот λόγος называется ἀπόλογος. Здесь ἀπόλογος употребляется в принципиально двояком смысле, а именно в разных языковых конструкциях. Ἀλκίνου ἀπόλογον означает ἀπόλογος «для» Алкиноя, a ἀλκίμου ἀνδρὸς ἀπόλογον означает ἀπόλογος, который рассказывает храбрый муж. В первом случае (в соответствии с основным значением глагола ἀπολέγειν — «выбирать», «отбирать») ἀπόλογος означает нечто, отобранное для изысканного удовольствия Алкиноя, во втором, который, собственно, и имеет принципиальное значение, ἀπόλογος означает некий «уговор», благодаря которому храбрый муж отъединяет то, что он говорит, от всех прочих слов и таким образом сохраняет сказанное им в свойственной ему истине. Дальнейшее речение не оставляет на произвол судьбы все то, что в нем говорится, не ввергает сказанное в развязность и необязательность обычной беседы и ни к чему не обязывающей болтовни. Дальнейшее речение выступает как нечто оберегающее себя самое, нечто такое, что противостоит навязчивому стремлению дать расхожее объяснение своему содержанию и, строго говоря, должно сказываться и выслушиваться лишь в характерной для него сущностной форме. Тем самым становится ясно, что наше «указание» на μΰθος как просто указание по разным причинам остается непроясненным. Об Эре, сыне Армения, сказано, что он когда-то закончил жизнь в сражении (ὅς ποτε ἐν πολέμῳ τελευτήσας). Когда через десять дней после сражения стали подбирать тела разложившихся мертвецов, его, как еще целого, принесли домой и на двенадцатый день приступили к погребению. Лежа на костре, предназначенном для его сожжения, он вдруг ожил и рассказал, что он видел «там» (в тамошнем). Он сказал: ἐπειδὴ οὑ ἐκβήναι, τὴν ψυχὴν πορεύεσθαι μετὰ πολλών, καὶ ἀφικνεΐσθαι σφάς εἰς τόπον τινὰ δαιμόνιον (614 b 9 — с 1), то есть после того, как его «душа» исторглась из «здешнего», она вместе со многими (другими) отправилась в путь, и вскоре прибыла в некое каким-то образом «демоническое» место, где в земле были две расселины, одна подле другой (χάσματα — χάος, то есть «зияния»), а наверху, в небе, тоже две. Между этими расселинами, зияющими в земле и в небе, восседали δικασταί, то есть те судьи, которые как бы вправляют душу в ту или иную налаженность. На мужественного воителя Эра эти Указующие возложили задачу ἄγγελον ἀνθρώποις γενέσθαι τών ἐκεΐ, то есть стать для людей вестником «тамошнего» (614 d 3). Поэтому ему надо ἀκούειν τε καὶ θεάσθαι πάντα τὰ ἐν τῴ τόπω (614 d 3), то есть внимать всему и взирать на все, что совершается в этом месте, которое определяется как δαιμόνιος.
d) Ψυχή: основа отнесенности к сущему. Знание мыслителей о Daimonia.
Аристотель и Гегель. Δαιμόνιον: бытийное врастание не-привычного в привычное.
Δαίμονες: отсылающие в привычное и указующие на него
Здесь надо пояснить, что означает ψυχή и что такое δαιμόνιον. Когда мы переводим греческую ψυχή словом «душа», наш перевод правилен ровно настолько, насколько он правилен в том случае, когда слово ἀλήθεια мы переводим как «истина», a ψεΰδος как «ложность». Короче говоря, слово ψυχή невозможно перевести. Даже если, вдаваясь в разъяснения, мы говорим, что душа — это сущность живого (Lebendige), сразу же возникает вопрос, как греки мыслили эту сущность. Ψυχή подразумевает основание и способ отношения к сущему. Отношение живого к сущему и тем самым его отношение к себе самому действительно может иметь место, и тогда это живое должно обладать словом (λόγον ἔχον), потому что только в слове раскрывается бытие. Однако отношения живого к сущему может и не быть: в таком случае живое (ζῴον) хотя и живет, но оно есть ζῴον ἄλογον, то есть живое бессловесное, например, животное или растение. Способ, которым какое-либо живое поставлено в отношение к сущему и тем самым к себе самому, то есть понимаемая таким образом установленность (Gestelltsein) в несокрытое, стояние бытия (Seinsstand) этого живого есть сущность «души»; она прибывает в то место, в тот τόπος, который характеризуется как δαιμόνιος.
Когда вместо δαιμόνιος мы ставим слово «демонический», мы хотя и сохраняем греческое слово, но, по всей видимости, вообще ничего не переводим. На самом же деле мы «переводим» как раз тогда, когда греческое δαιμόνιον «пере-водим» в сферу некоего неопределенного или наполовину определенного представления о «демоническом». «Демоны» для нас — это «злые духи», по-христиански говоря — «дьявол» и его сообщники. При таком подходе «демонизм» превращается в «чертовщину», независимо от того, продолжают ли мыслить по-христиански и, следовательно, верить в дьявола и исповедовать его или, следуя размытой морали Просвещения, понимают «дьявольское» как некое «зло», посягающее на принципы добропорядочного буржуа. При таком понимании «демонического» мы никогда не постигнем сущности и сущностной широты того, что характеризуется греческим δαιμόνιον, но как только мы попытаемся приблизиться к переживаемой по-гречески сущностной сфере «демонического», нам придется предаться размышлению, которое, если припомнить так называемую тему нашей лекции, снова отвлечёт нас от нее.
Итак, в «Никомаховой этике» ученик Платона Аристотель говорит о том, как греки понимают мыслителей: καὶ περιττὰ μέν καὶ θαυμαστὰ καὶ χαλεπὰ καὶ δαιμόνια εἰδέναι αὐτοὺς φάσιν, ἄχρηστα δʼ, ὅτι οὐ τὰ ἀνθρώπινα ἀγαθὰ ζητοΰσιν (Eth. Nic., Z 7, 1141 b 7-10), то есть о них говорили, что «хотя они знают [предметы] поразительные и, стало быть, достойные удивления и, следовательно, нелегкие и потому вообще «демонические», однако бесполезные, потому что они не исследуют того, что, согласно человеческому разумению, является пригодным для людей».
Таким образом, уже эллинство, которому «философия» и философы обязаны своим именованием и самой сущностью, довольно хорошо знало, что мыслители «далеки от жизни», однако все дело в том, что из этой «удаленности» греки и делали вывод: именно по этой причине для сущностной человеческой нужды мыслители являются самыми необходимыми людьми. Немцы не были бы народом мыслителей, если бы и их мыслители не знали того же самого: в 1812 г. в предисловии к первому изданию своей «Логики» Гегель пишет о том, что «образованный народ без метафизики» все равно что «разукрашенный храм без святого святых»[xii].
Итак, в приведенных словах Аристотеля говорится о том, что мыслители знают δαιμόνια, то есть «демоническое». Но откуда «философам», этим безобидным чудакам, погруженным в «отвлеченное», знать о «демоническом»? Под δαιμόνια здесь подразумевается все то, что для погруженного в повседневные дела человека кажется «поразительным», «достойным удивления» и в то же время «нелегким». В противоположность этому трудности, в целом, никогда не составляет то или иное наличествующее, которым он постоянно занят и в котором обустраивается, потому что здесь он вновь и вновь находит путь от одного сущего к другому, равно как находит и объяснение этому переходу. Многие, слишком многие заняты тем или иным сущим, которое является для них действительным (das Wirkliche), если не вообще «действительностью» (die Wirklichkeit). Говоря же о «действительности», толпа показывает, что кроме того или иного «действительного» она имеет в виду нечто еще, чего, однако, не усматривает. Сущность «многих» (πολλοί) заключается не в их числе, не в их «массе», а в том способе, каким эти «многие» относятся к сущему. Занимаясь этим сущим, они всегда и везде имеют в виду бытие, по-другому просто невозможно. Таким образом, эти «многие» видят бытие и тем не менее не видят его. Имея бытие в виду, но не усматривая его, а только занимаясь каким-либо сущим, просчитывая и обустраивая его, они хорошо ориентируются в любом сущем и находятся в нем «как дома», как «в родных стенах». В пределах сущего, в границах действительного, в пределах пресловутых «фактов» все остается привычным.
Если же человек усматривает бытие, то в сфере этого усмотрения перед ним открывается не-обычное, чрезмерное, вырывающееся за пределы привычного и не поддающееся объяснению с помощью понятий, взятых из сущего: перед ним открывается не-привычное, которое надо понимать в буквальном, а не в расхожем смысле чего-то огромного и еще-никогда-здесь-не-бывавшего, небывалого. Ведь правильно понятое не-привычное — это не огромное и не крохотное, потому что здесь вообще речь не идет о каком-то «размере». Равным образом, не-привычное не является еще-никогда-здесь-не-бывавшим, но представляет собой всегда бытийствующее прежде всяких «огромностей» и «чудовищностей». Являясь бытием, бросающим свой свет во все привычное, то есть сущее, бытием, которое в своем сиянии нередко лишь касается сущего как беззвучно скользящая тень облака, не-привычное не имеет в себе ничего ужасного или громоподобного. Не-привычное — это простое, незаметное, ускользающее от стремящихся схватить его «клешней» воли, не подающееся никакому искусству расчета, потому что оно всегда успевает опередить всякие планы и начинания[xiii]. Поэтому восхождение и самосокрытие, бытийствующее во всяком восходящем сущем, то есть, по сути дела, само бытие не может не удивлять человека, занятого повседневным освоением этого сущего, не может не удивлять тогда, когда этому человеку посреди его привычного опыта каким-то образом удается усмотреть бытие как таковое — то бытие, которое он обычно лишь имеет в виду. Для греков удивительное — это простое, неброское, само бытие. Это удивительное, это обнаруживающее себя в удивлении есть не-привычное, то, что столь непосредственно принадлежит привычному, что его никогда нельзя объяснить из этого последнего.
Наверное, после этого объяснения мы можем перевести τὸ δαιμόνιον, «демоническое», словом «не-привычное». Мы можем это сделать в том случае, если это не-привычное, не-обычное и необъяснимое из привычного мы мыслим как сущностное следствие δαιμόνιονʼа, то есть постоянно помним о том, что δαιμόνιον не потому демоническое, что оно есть не-привычное: оно есть непривычное потому, что в существе своем оно есть δαιμόνιον. Δαιμόνιον сущностно не тождественно непривычному в очерченном смысле и тем более не-привычное не является сущностным основанием для него. Но что же такое само δαιμόνιον?
Мы можем назвать δαιμόνιον не-привычным, потому что и поскольку оно всюду окружает собой то или иное привычное и всюду проявляет себя во всем привычном, никогда, однако, им не становясь. Понятое именно в таком смысловом ключе, не-привычное является по отношению к привычному не чем-то изъятым из него, но «самым естественным» в смысле по-гречески понимаемого «естества», «природы» (φύσις). Не-привычное есть то, из чего восходит все привычное, в чем это последнее коренится, почти всегда не догадываясь об этом, куда, в конце концов, всякое привычное опять ввергается. Тὸ δαιμόνιον есть существо и бытийное основание не-привычного, есть то, что вверяет себя привычному и бытийно входит в него. Вверять себя в смысле указывающего и показывающего по-гречески называется δαίω (δαίοντες — δαίμονες).
Здесь речь идет не о «демонах» как летающих туда-сюда злых духах: речь идет о тех, кто заранее определяет привычное, однако никогда не происходит из него, о тех, кто делает знак, отсылающий в привычное, показывающий в него. Тὸ δαιμόνιον — это обнаруживающее себя в своей отсылке в привычное и потому всюду каким-то образом бытийствующее как это привычное, но тем не менее никогда не являющееся только им. Позднейшим поколениям и нам самим, которым остается неведом изначальный эллинский опыт бытия, непривычное сразу должно предстать каким-то в принципе объяснимым исключением по отношению к привычному; мы ставим непривычное рядом с привычным, признавая в нем, правда, необычность, но только и всего. Нам трудно пробиться к основополагающему греческому опыту, который говорит о том, что именно само привычное и даже только оно, поскольку оно есть, есть непривычное; что непривычное «лишь» появляется в форме привычного, потому что намеком отсылает в него, является в нем этим намекающим (das Winkende) и таким образом выступает словно само привычное.
Нам трудно уяснить это простое существо δαιμόνιονʼа, потому что у нас нет опыта переживания ἀλήθεια. Ведь δαίμονες, Себя-обнаруживающие, Указующие (die Weisenden), есть те кто они есть (и есть именно так, как они есть) только в сущностной сфере раскрытия и самого раскрывающегося бытия. День и ночь обретают свою сущность из того, что скрывает, раскрывается и проясняется. Но светлое — это не только нечто видимое и усматриваемое, но прежде всего то, что, будучи восходящим, уже обозревает всё, озаряющееся светом, стоящее и лежащее в нем, то есть всё привычное, и взирает во всё привычное, причем так, что оно появляется именно в самом привычном, только в нем и только из него.
е) Видение (θεάω), предоставляющее вид бытия. Вид бытия (εΐδος).
Греческий бог (δαίμων,), в видении предоставляющий себя несокрытости.
Не-привычное как взирающее в привычное.
Появление непривычного в видении человека
«Смотреть» по-гречески θεάω. Примечательно — или, быть может, даже поразительно? — что мы знаем только медиальную форму данного глагола, θεάομαι, которую переводят как «смотреть на что-либо» (anschauen), «глядеть в направлении чего-либо» (zuschauen). От данного глагола происходит и θέατρον, то есть «место действия», «театр». Если же помыслить этот глагол по-гречески, то он означает «предоставлять себе некий вид», «доставлять себе некое зрелище», а именно θέα в смысле того «вида», в котором нечто предстает и преподносится. Таким образом, θεάω, видение, ни в коем случае не имеет в виду смотрения в смысле какой-то предметно-представляющей зрительной устремленности на что-либо (Hinsehen und Zusehen), в которой человек направляет себя на сущее как на некий «предмет» и улавливает его взглядом. Θεάω, напротив, является таким видением, в котором видящееся, зрящееся показывает самое себя, появляется и «присутствует здесь». Θεάω — это тот основной способ, каким видящееся приносит себя в «вид» своей сущности (δαίω), то есть в несокрытое, и восходит как таковое. Видение, в том числе и человека, в своем исконном смысле является не улавливанием чего-либо, не схватыванием этого нечто, а себя-показанием (das Sichzeigen), в соотнесении с каковым только и возможно улавливающее усмотрение. Если человек сразу постигает видение только в соотнесении с самим собой и понимает его как идущее лишь «от него» как «я» и субъекта, тогда оно представляет собой «субъективную» деятельность, направленную на предметы. Если же человек понимает свое собственное видение, «зрение», то есть в данном случае «вид» другого человека, не в «рефлексии» на себя самого как того, кто, взирая, представляет; если он, оставив рефлексию, воспринимает вид идущего навстречу человека в нерефлексивной данности этой встречи как его у-видение, тогда обнаруживается, что вид идущего навстречу показывает себя как то, в чем сам человек в своем присутствии предстает перед другим, то есть появляется и бытийствует. Нерефлексивное видение, идущее как бы от самого встречного, и его вид, понятый именно в таком смысле, раскрывают самого встречного в его сущностной основе.
Мы, люди новоевропейского сознания, или, шире говоря, поколения людей, пришедших на смену грекам, уже давно настолько повернуты в себя, что видение воспринимается нами только как представляющая себя-направленность человека на сущее. В результате видения мы совершенно не успеваем увидеть и подразумеваем под ним лишь саму завершенную «деятельность», а именно акт пред-ставления. «Пред-ставление» в данном случае означает: «поставление-перед-собой», «принесение-к-себе», «нападение» на вещи и их «захват». Греки же понимали видение прежде всего как тот способ, каким человек, даже с другим сущим, но как человек восходит в свое существо и присутствует в нем. Говоря современным языком, и потому не совсем адекватно, но для нас понятнее, мы можем вкратце сказать: вид, θέα — это не видение как деятельный акт, совершаемый «субъектом», а увидение вида как восхождения и выступления самого «объекта». Видение есть себя-показание, причем такое, в котором сосредоточилась сущность появляющегося перед нами человека; в котором этот человек «восходит» в двояком смысле: во-первых, в этом «виде» присутствует его сущность как некая сумма его существования; во-вторых, в этом «виде» раскрывается совокупность и простая цельность его сущности, но раскрывается для того, чтобы тут же впустить в таким образом несокрытое всю бездну сокрытия.
(Видение, θεάον означает: предлагать вид, а именно вид бытия сущего, которое суть сами видящие. Такое видение отличает человека и отличает его только потому, что оно, видение показывающее само бытие, не имеет в себе ничего сугубо человеческого, но принадлежит сущности самого бытия как появлению в несокрытое).
Итак, только в том случае, если мы уже понимаем, что в эллинстве «сущность» и бытие имеют основную черту самораскрытия, если, по меньшей мере, мы стремимся это постичь; если мы мыслим ἀλήθεια, мы способны помыслить θεάω, зримый вид, как основной способ себя показывающих, предлагающих себя в «привычном» появления и сущности. Только тогда, когда мы постигаем природу этих простых сущностных взаимоотношений, мы понимаем то, что в противном случае вообще не понимается: на закате эллинства, а именно у Платона, бытие мыслилось из «вида», в котором нечто предстает как таковое, мыслилось из «облика», который в каждом случае как бы «делает» ту или иную вещь или вообще сущее. «Облики», которые творят эти вещи, их «вид» называется εΐδος или ἰδέα. Бытие — ἰδέα — есть то, что показывает себя во всем сущем и что проглядывает из этого сущего, благодаря чему сущее вообще постигается человеком как некое сущее. Не-привычное, взирая во все привычное и будучи изначально себя показывающим, предстает как исконно видящееся и видящее в особом смысле: τὸ θεάον, то есть τὸ θεΐον. Обычно это слово «правильно» переводят как «божественное», не мысля его по-гречески. Οἱ θεοί, то есть так называемые «боги», взирающие в привычное, глядящиеся в него и всюду в нем видящиеся, суть οἱ δαίμονες, указующие и намекающие.
Поскольку бог как бог есть зрящий и он зрит, видит как бытийствующий, то есть поскольку он предстает как θεάων, в своем видении, зрении он есть дающий себя в несокрытость δαίων (δαίμων). Этот во взирании себя Дающий есть бог, потому что основание не-привычного, то есть само бытие, имеет сущность самораскрывающегося появления. Однако не-привычное появляется в привычном и как привычное. Зряще-видящий появляется в облике и «виде» привычного, сущего, а тот, кто, находясь внутри привычного, через его взор и вид оказывается противостоящим и присутствующим в ожидании есть человек. Поэтому внутри привычного, в сущностной сфере этого человеческого «зрения» и видения должен сосредоточиваться «вид» бога и в нем — очерчиваться его форма. Сам человек есть то сущее, отличительная черта которого состоит в том, что это сущее затронуто, «окликнуто» самим бытием, так что в самораскрытии человека, в его видении и его виде появляется само не-привычное, бог.
ПОВТОРЕНИЕ
2) «Недемоническая» природа «демонов» (δαίμονες).
Раскрывающее восхождение бытия: самопрояснение.
Видение (внятие) изначального способа восхождения в просвет.
Промежуточное положение животного (Ницше, Шпенглер).
Человек как у-виденный. Θέα и θεά — одно и то же слово.
Сорок восьмой фрагмент Гераклита.
Недостаточные объяснения сущности греческого божества.
Зримый «вид» как решающее в появлении не-привычного в привычном.
Не-привычное, предъявляющее себя в привычном,
и покоящееся в бытии отношение к божеству
«Миф», который завершает «диалог» Платона о сущности πόλις и одновременно раскрывает ее иной смысл, сам завершается сказанием о той сущности, которая противостоит сущности ἀλήθεια, то есть сказанием о сущности λήθη. Это сказание есть не что иное, как рассказ воина Эра. Погибнув в сражении, он окончил жизнь в «здешнем» и со многими другими павшими начал путешествие в «тамошнем», то путешествие, которое непременно надо пережить, прежде чем, приняв новое решение, отправиться в новое путешествие в «здешнем». На этого воина возложена задача запомнить все, что он видел в «тамошнем» путешествии, запомнить все места, в которых он побывал и потом, вернувшись в «здешнее», как посланнику (ἄγγελος) рассказать об увиденном людям. Природа всех «тамошних» мест, их взаимосвязь и последовательность появления, то есть вся «тамошняя» местность называется τόπος δαιμόνιος. Поскольку λήθη, как явствует из повествования, является предельным и последним местом в этой «демонической» местности, мы должны (чтобы понять природу λήθη, определяющую всю местность как таковую) выяснить, чтó в данном случае, да и вообще, означает δαιμόνιον в греческом его осмыслении. Расхожие туманные и запутанные представления о «демоническом» нисколько не помогают прояснению сущности «даймониона», а с другой стороны, все здесь сказанное надо воспринимать не более как вектор направления. Поэтому полностью уберечься от недоразумений не удастся.
Для начала надо обратить внимание на то, что в знакомый нам круг затрагивающего нас и известного нам сущего, которое мы называем «привычным», вливает своей свет «не-привычное» (Un-geheure). Это последнее мы понимаем в совершенно «буквальном» смысле. Мы совершенно не связываем с этим словом такие представления, как «огромный», «подавляющий», «чрезмерный» и «обособленный». Хотя в своей не-сущности (Un-wesen) не-привычное может укрываться и в такие формы, в своей сущности оно остается неброским, простым, незаметным, которое, тем не менее, проникает своим светом все сущее. Если мы понимаем не-привычное как нечто простое, которое, проникая своим светом привычное, не происходит от него, но, пронизывая его всего своим сиянием, окутывая им, предваряет его, нам становится ясно, что употребленное здесь слово «не-привычный» не имеет ничего общего с распространенным его значением, в соответствии с которым мы постоянно имеем в виду нечто впечатляющее и «аффективное». Таким образом, не-привычное, мыслимое в предложенном здесь контексте, не несет никакого оттенка обычно подразумеваемого «чудовищного» и «огромного».
То, что мы называем «не-привычным», мы все-таки улавливаем из привычного, а то, чем так называемое не-привычное является в себе, то, что позволяет нашему не-привычному быть только сущностным следствием себя, — это заключается в высветлении сущего, в предоставлении ему себя самого, в наделении его собою, по-гречески δαίω.
То, что светозарно вливается в сущее, но никогда не объясняется и совсем не соделывается из него, есть само бытие. Бытие, светоносно вливающееся в сущее, есть τὸ δαΐον — δαΐμον. Те, кто, как бы исходя из бытия, вверяют себя сущему и таким образом отсылают в него, суть δαίοντες — δαίμονες. «Демоны», понятые таким образом, совершенно не «демоничны», если судить по нашим смутным представлениям о «демоническом». Тем не менее эти недемонические δαίμονες могут быть всем, чем угодно, только не чем-то «безобидным» и «случайным». Это не какое-то случайное добавление к сущему, которое человек может не замечать, не ощущая при этом никакой потери в себе самом, в своей собственной сущности, может ставить на второй план и обращаться к нему по своему желанию или надобности. Вследствие такого непреложного положения вещей, которое, правда, не имеет привычки бросаться в глаза, данные δαίμονες, конечно, более «демоничны», чем какие бы то ни было привычные для нас «демоны». Δαίμονες сущностнее всякого сущего. Они не только настраивают «демонических» «демонов» на ужасный и страшный лад, но вообще определяют всякую существенную настроенность: от благоговения и радости до печали и страха. При этом, правда, такие «настроения» не следует в современном духе толковать субъективно: напротив, их надо мыслить в более изначальном смысле как те настрои, с которыми безмолвный голос слова сообразует человеческую сущность в ее отношении к бытию.
Мы, пришедшие позднее, можем постичь природу δαίμονες — как вносящих свой свет в привычное, как привходящих в сущее и таким образом направляющих сущее в бытие — только при одном условии: если нам удастся хотя бы в некоем предугадывании нащупать связь с ἀλήθεια, дабы тем самым выяснить, каким образом раскрытие и восхождение всей сущности изначально взошедшего бытия властно пронизывает собою все эллинство. Поскольку бытие бытийствует из ἀλήθεια, ему принадлежит самораскрывающееся восхождение. Мы называем его прояснением и просветом (см. «Бытие и время»). Такое именование исходит из изначального опыта мышления, вынужденного мыслить природу ἀλήθεια в ее собственной «истине», которой надо внимать только при таком условии. Это другое именование, вторгающееся как будто неожиданно, ни в коей мере не представляют собой некий терминологический вариант различных обозначений того, что дальше обычно не продумываются. Проясненное (das Gelichtete) изначально обнаруживается в прохождении проницательного (Durchsichtige), то есть как ясность и свет. Лишь постольку, поскольку ἀλήθεια бытийствует, она приносит просвет в несокрытое. Так как в сокрытой сущности ἀλήθεια совершается просвет, восхождение и присутствование, то есть собственно бытие, постигается «в свете» ясности и «света». Светоносное самораскрытие проявляется как сияние (солнце сияет). Сияющее — это самораскрывающееся для его усмотрения. То, что сияет навстречу нашему усмотрению, есть наплывающий на человека, «окликающий» его «вид», «взор». У-видение, которое человек совершает по отношению к появляющемуся виду, уже есть ответ на тот первоначальный вид, который только и возводит человеческое у-видение в бытийность. Таким образом, вследствие властвования ἀλήθεια и только в результате этого властвования видение есть изначальный способ восхождения в светлое и вхождения (то есть теперь сияния) в несокрытое. Видение здесь, конечно, надо понимать в исконно греческом смысле как тот способ, которым мы встречаем человека, когда он взирает на нас, видит нас и, взирая и видясь, сосредотачивает себя самого в это раскрывающее восхождение и в нем, ничего не утаивая и вверяя ему свою сущность, «восходит».
Это видение, которое только и делает возможным присутствование (Anwesen), потому более исконно, чем присутствие (Anwesenheit) вещей, что, раскрываясь, оно, в соответствии с полной сущностью раскрытия, одновременно утаивает и скрывает в себе нераскрытое. В противоположность этому без-видная и не-зрящая вещь появляется так, что предстает только в несокрытом, причем сама ничего не раскрывает и тем самым ничего не скрывает.
В этой ситуации своеобразное промежуточное положение занимает животное. Говорят, что животные «смотрят на нас», но на самом деле они не взирают из своего «вида». Когда животное «высматривает», «выслеживает», «пристально наблюдает» или «таращиться», раскрытия бытия не происходит, и никогда животное в своем так называемом видении и «зрении» не привносит в раскрытое ему сущее восхождения себя самого. Это мы переводим такое их «видение» в несокрытое и приписываем их «смотрению на нас» черты подлинного видения. С другой стороны, там, где человек лишь смутно постигает бытие и несокрытое, животный «взор» может сосредотачивать в себе особую силу встречи. Видение, совершаемое в исконном смысле, то есть в ракурсе восходящего себя-предоставления, в ракурсе ἀλήθεια, по-гречески называется θεάω. С другой стороны, видение в смысле уловления, схватывания, которое, будучи понятым в соотнесении с самим уловляющим, просто допускает до себя встречный вид и принимает его, определяется медиальной формой глагола θεάω, то есть глаголом θεάομαι: подпустить к себе встречный вид, то есть усмотреть. Греки знают и уловляющее видение, равно как мы наряду с уловляющим видением как актом субъективного представления знаем вид как встречу. Однако в нашем вопросе речь идет не о том, известны ли нам или им обе сущностные формы видения, то есть «встреча» и «уловление»: речь идет о том, какое видение (вид как вхождение в присутствие бытия или вид как уловление) имеет сущностное преимущество при истолковании появления и почему это преимущество отдается тому или иному видению. В соответствии с новоевропейским приоритетом субъективности видение как акт, совершаемый субъектом, оказывается решающим. Поскольку, согласно Ницше, человек есть зверь, утвержденный в статусе сверхчеловека, зверь, который обретает свою сущность в воле к власти, взор и видение субъекта это взор и видение существа, которое всё просчитывает, во всем стремится забежать вперед, то есть завоевать, перехитрить, неожиданно напасть. Вслед за Ницше Шпенглер говорит о том, что взор современного субъекта — это взгляд хищника, подстерегающего добычу.
Что касается греков, то они тоже знали «зрение» как действие человека, но основной чертой такого уловляющего «зрения» является не выслеживание, в котором сущее как бы нанизывается на охотничье копье и сразу превращается в противолежащий враждебный предмет, которым надо овладеть. Греческое «зрение» — это внятие (das Vernehmen) сущего, «прислушивание» к нему, совершающееся из изначального прислушивающегося взаимного согласия с бытием, в результате чего грекам не ведомо понятие предмета и они никогда не могут помыслить бытие как предметность. Греки постигают вы-хватывающее «зрение» как чуткое внимание сущему, и это происходит потому, что данное зрящее видение вообще изначально определяется встречным взором и видом. В сущностной сфере ἀλήθεια этот вид имеет преимущество. В «видовом» горизонте этого исконного вида человек — это «лишь» у-виденный (der An-geblickte), причем это «лишь» столь существенно, что только как у-виденный человек получает возможность вступить в отношение к бытию, быть принятым в это отношение и тем самым начать внимать бытию. Зрящее есть взирающее в несокрытость: τὸ θεάον есть τὸ θεΐον. Мы правильно, но без особых раздумий, претенциозно, но бессодержательно переводим последнее слово, то есть τὸ θεΐον, как «божественное» (das Göttliche). Θεάοντες суть взирающие в несокрытое. Θέα, взор и вид как сущность восходящего здесь-стояния, и θεά, то есть «богиня», — это одно и то же слово, если принять во внимание, что греки не ставили ударений, но изначально учитывали это сущностное созвучие слов и не забывали о сокрытой в них смысловой перекличке. Возьмем, к примеру, 48 фрагмент Гераклита, в котором сказано: τώι οΰν τόξωι ὄνομα βίος, ἔργον δέ θάνατος. «Имя луку — жизнь (βίος), дело же его — смерть»[xiv].
В греческом вот-бытии лук как оружие означает и «есть» «жизнь» (причем не «биологическая», а понятая как посланное судьбой поприще), но то, что он причиняет и производит, есть «смерть». Итак, слово βίος двузначно. От лука исходит и восходит полет и путь стрелы. «Лук», который возносит, в то же время и низводит. Ὄνομα — это имя, слово, которое именует, а не пустой звук. Слово βιος двояко по смыслу и в этой двусмысленности оно как раз и выражает сущность смертоносной жизни. Так же, как словесную пару βίος—βιός греки слышат другую словесную пару, а именно θέα—θεά. Θεοί, которых мы называем «богами», взирая в несокрытое и намекая на него, то есть представая как θεάοντες, по своей сути есть δαίοντες—δαίμονες, то есть то не-привычное, которое вверяет себя привычному. Оба слова, то есть θεάοντες и δαίοντες, по существу означают одно и то же. Однако имена θεοί и δαίμονες, взятые в своем обычном значении («боги» и «демоны»), больше не означают того изначального, о котором говорят. В большинстве случаев сказ слова искажается и подавляется его «значениями».
Несущие свой свет в привычное появляются в нем как ему подобное. Таким образом, «зрящие» присутствуют как зрящие в привычном, как люди в образе людей. В своем привычном человек появляется как присутствующий в нем в качестве зрящего (blicken-derweise). В каком-то смысле так же появляется и животное, и этим объясняется тот факт, что в истоке божественное в исконно греческом смысле (das Gotthafte) имеет также форму животного. Однако именно это обстоятельство доказывает, что ни «животное» как таковое, ни «человек» как таковой, но именно видящий взор их обоих остается решающим для появления не-привычного. Следовательно, боги появляются в образе человека не потому, что их очеловечивают и мыслят «по-человечески», а потому, что греки постигают человека как такое сущее, бытие которого определяется из отношения самого раскрывающегося бытия к тому, что мы на основании этого отношения называем «человеком». Поэтому в человеке может восходить «вид» и взор бога, исходящего из бытия, он может «виднеться» из сосредоточенного в этом «виде» образа «человека». С другой стороны, в большинстве случаев люди обожествляются и мыслятся по образу бога именно потому, что и те, и другие обретают соответствующую каждому сущность из самого бытия, то есть из ἀλήθεια.
В современном «объяснении» природы греческих богов рассуждения об «антропоморфности» и «теоморфности» одинаково ложны. «Объяснение», согласно которому боги «раз-божествляются» сообразно человеку, а люди «о-божествляются» до нечеловеческого уровня, принципиально ошибочны, потому что они исходят из той постановки вопроса, которая уже неверна в самом вопросе и останется таковой, так как остается неведомой и непознанной сущностная сфера ἀλήθεια, единственно всё разъясняющая. В природе греческого божества поистине удивительное и «демоническое» — это не царствование отдельных божественных персонажей, а их сущностное происхождение.
Можно считать само собой разумеющимся, что греческие боги, которые были, остаются постижимыми из по-гречески мыслимого бытия, но именно это названное здесь бытие мы не мыслим, не успеваем задуматься о нем и в своей привычной спешке, потворствуя своим вкусам и желанием или вообще не слишком раздумывая, просто подставляем какое-то «бытие», которое мы и сами-то не очень хорошо постигли и как следует не разъяснили. И поэтому вновь и вновь напрашивается самый удобный выход: объяснить греческое божество как «порождение» человека и к тому же «религиозного» человека — как будто этот человек мог быть человеком, пусть даже на миг, вне связи этого божества с его, человека, сущностью, то есть без того, чтобы сама эта связь покоилась в бытии как таковом.
f) Различие между греческими богами и христианским Богом.
Именование бытия в его взирании-в (Herein-blicken) через слово и миф
как способ отношения к появляющемуся бытию.
Человек как бого-сказитель (Gott-sager).
«Закат» культур (Ницше, Шпенглер).
Основная черта забвения бытия: а-теизм
Итак, греки не творили богов по образу человека, равно как не обожествляли человека. Природу греческих богов нельзя понять из «антропоморфизма», равно как природу грека нельзя мыслить в контексте «теоморфизма». Греки не очеловечивают богов и не обожествляют людей: они, скорее, постигают тех и других в их несходной сущности и взаимосвязи из сущности бытия, понимаемого как раскрывающееся восхождение, то есть как взирание и указание. Только поэтому греки имеют ясное знание о сущности «полубогов» (ἡμίθεοι), занимающих промежуточное положение между богами и людьми.
«Антропоморфное» объяснение природы греческих богов и «теоморфное» объяснение природы самих греков, которые не очеловечивают богов и не обожествляют человека, одинаково представляют собой необоснованные ответы на не отличающиеся глубиной вопросы. Когда пытаются выяснить, не очеловечивали ли греки «божественные персонажи» и не возносили ли людей до уровня божественных личностей, речь сразу заходит о «лицах», «личностях», вместо того чтобы сначала хотя бы в общих чертах определить сущность по-гречески понимаемого человека и по-гречески же понимаемого божества или, на худой конец, осмыслить самое первостепенное, а именно тот факт, что греки не знали ни «субъектов», ни «личностей».
Как вообще можно составить хотя бы малейшее представление об «антропо-морфии» и «тео-морфии», не кладя в основу по-гречески постигнутую μορφή, не полагая в основание по-гречески понятого «оформления», «становления» и «бытия»? Но, с другой стороны, можно ли это сделать, не имея заранее хоть какого-то знания об ἀλήθεια и не углубляя его постоянно?
В отличие от всех прочих богов, включая христианского, основная суть греческого божества заключается в том, что греческие боги берут начало из самой бытийной «сущности», из «глубинно бытийствующего» бытия, и потому даже борьба между «новыми», олимпийскими богами, и богами «старыми» представляет собой то борение, которое, живя в самой сущности бытия, определяет исторжение его собственной сущности и ее восхождение. В той же самой сущностной взаимосвязи надо рассматривать и тот факт, что у греков как боги, так и люди ничего не могут поделать с судьбой, никак не могут противостоять ей. Μοΐρα в своем бытии владычествует как над богами, так и над людьми, в то время как, например, с христианской точки зрения всякая судьба складывается в результате «провидения», осуществляемого Богом-Творцом и Богом-Искупителем, который, будучи таковым Творцом, владычествует над всяким сущим как над своим собственным творением и, так сказать, просчитывает его. Недаром Лейбниц говорит: cum Deus calculat, fit mundus, то есть «как Бог вычисляет, так мир и созидается». Боги греков — это не «личности», владычествующие над бытием: они, скорее, есть само бытие, взирающее в сущее. Поскольку же бытие всегда и всюду бесконечно возвышается над сущим и в своем возвышении вторгается в него, боги — там, где, как, например, у греков, сущность бытия изначально пришла в несокрытое — оказываются «более возвышающимися» или, говоря в новоевропейском смысле, «более духовными», более «спиритуальными», несмотря на все «человеческое», что в них находят. Именно потому, что «боги» суть δαίμονες и θεάοντες и в момент появления привычного и родного они со-появляются с ним, их не-привычное столь кротко и соразмерно привычному, что при их светоносном появлении αἰδώς и χάρις, то есть благоговейный страх и благоприятство, уже, как бы забегая вперед, спешат всюду пролить своей свет в сущее, сияя, указывают на бытие и, указывая, настраивают на определенный лад. Хотя, называя греческих богов дающими настрой, мы уже изначальнее мыслим их сущность, мы все-таки можем так их называть, потому что благоговейный страх, благожелательство и светлая мягкость принадлежат бытию и поэзией постигаются в αἰδώς и χάρις, а мыслью — в θαυμαστόν и δαιμόνιον. Из этого настраивающего, указующего света рождается блеск, присущий тому, что именуется словом θεΐον, рождается сияние. Только благодаря этому блеску грекам одновременно дано было знать темное, пустое и зияющее в своей отверстости. Если общегерманское слово «бог» (Got), вслед за индийским словом, означает существо, к которому взывает человек, то есть означает того, к кому взывают, то греческие именования того, что мы называем богом, говорят о существенно ином: θεός—θεάων и δαίμων—δαίων именуют само собой восходящее зрящее и видящее (aufgehende Blickende), a также именуют бытие, вверяющее себя сущему; здесь бог и боги, в соответствии со своим именем, уже не рассматриваются с точки зрения человека как нечто, им призываемое. Там же, где боги действительно призываются, например, в древних формулах присяги, они называются συνίστορες, то есть те, которые «смотрят» (sehen), имеют усмотренное и как таковые имеют сущее в несокрытости и тем самым могут указывать его. Однако συνίστορες — это не свидетели, потому что «свидетельствование», поскольку мы не понимаем его в исконном смысле как сюда-поставление (вида), уже основывается на усмотренном (Gesehen-haben) смотрящего (Sehende). Как θεάοντες боги с необходимостью суть ἵστορες. Ἱστορία означает «делать зримым» (от основы fid; videre, visio), высветлять, прояснять. Поэтому то, что греки называют ἱστορεΐν, прежде всего свойственно лучу света. Например, в трагедии Эсхила «Агамемнон» о Менелае сказано так: εἰ γοΰν τις ἀκτὶς ἡλίου νιν ἱστορεΐ — если какой-либо луч солнца его узрит, то есть сделает видимым, высветит.
Однако имя и именование исконно греческого божественного (das Gotthafte) (θεΐον) как зряще-взирающего и вливающего свой свет в сущее (θεάον) — не просто звуковое обозначение. Имя как первое слово есть то, что позволяет именуемому появиться в его изначальном способе бытия. Что же касается сущности по-гречески понимаемого человека, то она определяется из отнесенности восходящего в своем свете бытия к этому самому человеку, так что он предстает как имеющий слово. Слово же по своей природе является именующим высвобождением бытия к его появлению. Человек есть ζῴον λόγον ἔχον, то есть то сущее, которое восходит в именование и сказание и которое совершает свою сущность в сказывании. Слово как именование бытия, μΰθος, именует бытие в его изначальном взирании в несокрытое, в его изначальном просиянии; оно именует τὸ θεΐον, богов. Поскольку τὸ θεΐον и τὸ δαιμόνιον (божественное в исконном греческом смысле) есть взирающее в несокрытость, поскольку оно есть то не-привычное, которое вверяет себя привычному, μΰθος, который столь же существенно как θεΐον и δαιμόνιον определяется из раскрытия, есть единственный соразмерный способ отношения к появляющемуся бытию. Поэтому исконно божественное как появление, а также как то, чему внимают в этом его появлении, есть сказуемое, должное быть сказанным (zu Sagende) и то сказанное (das Gesagte), что было сказано в сказании (die Sage). Поэтому такое божественное есть «мифическое», а сказание о богах есть «миф». Поэтому по-гречески понятый человек и только он в своей собственной сущности и в соответствии с сущностью ἀλήθεια есть бого-сказитель (Gottsager). Почему это так, можно понять и осмыслить только из сущности ἀλήθεια, поскольку она заранее властно проникает собою само бытие, богов, людей, а также отношение бытия к человеку и человека к сущему.
Но что происходит тогда, когда именно такая сущность ἀλήθεια, а вместе с нею и изначально себя обнаруживающая сущность бытия искажается в ходе различных преобразований и, в конце концов, через эти искажения предается сокрытию как забытию? Что происходит тогда, когда сущность бытия и сущность истины предаются забвению? Что происходит, когда забвение бытия незаметно, никак себя не проявляя, окутывает историю исторического человечества? Если изначальные боги восходят из сущности бытия, то не стало ли забвение бытия причиной того, что (с тех пор как начало истины бытия ускользнуло в сокрытость) больше не смог появиться ни один бог, восходящий из самого бытия?
«Α-теизм», правильно понятый как отсутствие богов (Götter-losigkeit), представляет собой начавшееся со времен заката эллинства забвение бытия, которое подавляющее западноевропейскую историю и ставшее основной чертой этой самой истории. «Α-теизм», понятый из самой сущности истории, — это ни в коем случае не какое-то порождение одичавшего свободомыслия, как любят думать. «Α-теизм» — это не «точка зрения» высокомерных «философов» и тем более не жалкие проделки «масонов». Такие «атеисты» сами — лишь последние отбросы отсутствия богов.
Может ли появление божественного в исконно греческом смысле вообще найти свою сущностную сферу, то есть найти несокрытость, если, и до тех пор пока сущность бытия предается забвению и из этого самого забвения само так и не узнанное забвение бытия возведено в принцип объяснения всякого сущего, как это и происходит во всей метафизике?
Только тогда, когда бытие и сущность истины приходят из забвения в припоминающее мышление, западноевропейское человечество получает самое предварительное предусловие к самому предначинательному начинанию: речь идет об опыте сущности бытия как той сферы, в которой только и может подготавливаться решение о богах и их отсутствии. Однако само бытие и его сущность не придут в припоминающее мышление до тех пор, пока историю сущности истины мы не постигнем как основную черту нашей человеческой истории; до тех пор, пока всю историю мы не перестанем просчитывать «историографически», а такая ситуация складывается и тогда, когда эллинство мы воспринимаем как некое прошлое и приходим к выводу, что оно «завершилась» (причем данный вывод в большинстве случае делается в «историографической» форме, когда говорят, что эллинство оставило нам свои «вечные ценности», как будто сущностная история есть нечто такое, что можно «оценить»). Преклонение перед «вечным ценностями» ушедших культур — основная форма расставания историографов с историей, и они расстаются с ней, нисколько ее не познав, и уничтожают всякий смысл наследия и диалога.
Но если уж мы заговорили о «закатившихся» народах и «закатившемся» эллинстве, то резонно спросить, что вообще нам известно о сущности исторического заката? Что если закат Греции был тем событием, в котором изначальная сущность бытия и истины возвратилась в свою собственную сокрытость и только потому стала будущностью? Что если «закат» — не конец, а начало? Любая греческая трагедия говорит о закате. Каждый из этих закатов есть начало и восход сущностного. Когда Шпенглер, полностью следуя метафизике Ницше и всюду огрубляя и упрощая ее, начинает рассуждать о «закате Европы», он нигде не говорит об истории, потому что заранее низвел ее до некоего «биологического процесса» и превратил в оранжерею «культур», которые, как растения, расцветают и чахнут. Шпенглер мыслит историю без истории, если он вообще мыслит. Он понимает «закат» как простое приближение к концу, то есть как биологически понимаемое издыхание. Животные «идут к закату», издыхая. История идет к закату, поскольку возвращается в сокрытость начала, то есть она именно потому не закатывается в смысле «издыхания», что никогда не может «закатиться» именно так. Когда, разъясняя здесь природу греческого δαιμόνιονʼа мы намекаем на сущность греческих богов, мы имеем в виду не некий «антиквариат» и не предметы историографии, но историю. Это событие сущностного решения сущности истины, и оно всегда грядущее и никогда — прошедшее. Когда же мы забываем, мы впадаем в самое жестокое рабство по отношению к прошлому.
g) Божественное, дающее себя в несокрытое. Daimonion:
«видящийся» взор в безмолвствующем вбирании в принадлежность к бытию.
Сфера раскрытия слова.
«Соответствие» божественного и сказываемого (τὸ θεΐον и ὁ μΰθος)
Воплощение-в-произведении (искусство) несокрытости и посредничество
слова и мифа. Εὐδαιμονία и δαιμόνιος τόπος
Если мы оставим забвение бытия (насколько нам это теперь возможно и в той мере, в какой мы вообще можем это сделать «самостоятельно»), если подумаем о его изначальной сущности, то есть об ἀλήθεια, если, наконец, постараемся помыслить ее в ее более глубинной, изначальной сущности, тогда нам станет ясно, что такое «демоническое» в смысле греческого δαιμόνιον.
Δαιμόνων есть сущностная черта того, что обозначается словом θεΐον, которое, будучи зрящим, взирает в «привычное», то есть появляется в нем. Такое появление в себе есть δαΐον, то есть то божественное, которое отдает себя в несокрытое. Основным способом появления этого божественного, которое отдает себя в несокрытое и таким образом появляется в нем, является взирающее видение и сказывание, причем надо обратить внимание на то, что в данном случае сказывание заключается не в сообщении, а в голосе безмолвного настраивающего, намекающего, вбирающего сущность человека в ее самое, то есть в ее определенное судьбой предназначение: в ее способе быть «вот здесь», то есть быть экстатическим просветом бытия (см. «Бытие и время», § 28 и след.). Зрящийся «вид», в безмолвствующем вбирании влекущий в саму внимающе-средоточащую принадлежность бытию, и есть δαιμόνιον. Этот «призыв» божественного, утверждающийся в самом бытии, принимается самим человеком в речение и сказание, потому что только в сказывании совершается раскрытие несокрытого и сокрытие раскрытого.
Только в слове как раскрытии бытийствует зримый «вид» в несокрытое. Этот «вид» лишь «видится» и представляет собой только появляющееся себя-показание — каковым он и является — совершающееся в сфере раскрытия слова, сказывающего внимания. Только познав исконную связь между сущностью бытия и словом, мы сможем понять, почему в Греции и только в ней божественному (τὸ θεΐον) должно «со-ответствовать» сказуемое (ὁ μΰθος). Это со-ответствие вообще является изначальной сущностью всякого соответствия (гомологии), если понимать это слово совершенно буквально. Постигнув природу этого соответствия, в котором речение, слово, сказание со-ответствует бытию, то есть, сказывая, раскрывает его из образовавшегося единства, мы получаем возможность дать ответ на ранее поставленный вопрос.
Приступая к разъяснению сущности греческого μΰθος как раскрывающего сказания, в котором и для которого появляется бытие, мы утверждали, что в соответствии с таким первенством слова поэзия и мышление обладали в эллинстве высшим историческим достоинством. Такое утверждение должно было вызвать сомнения, ставшие еще более серьезными в связи с уже данными разъяснениями природы греческих δαιμόνιον и θεΐον. Известно, что у греков и для греков сущее появляется в своем бытии и «сущности» не только в «слове», но и в произведениях изобразительного искусства. Если божественное, как его понимали греки, то есть τὸ θεΐον, есть не что иное, как само бытие, взирающее в «привычное»; если как раз для грека божественная сущность проявляется в построении храмов и в скульптуре, тогда как быть с утверждением о том, что слово имело преимущество и, следовательно, преимущество имели поэзия и мышление? Если иметь в виду именно некое особое отношение к божественному, то разве архитектура и изобразительное искусство не превосходят поэзию и мышление или, по крайней мере, не равняются с нею? Разве не оправдана распространенная точка зрения, согласно которой именно архитектура и ваяние дают нам вполне нормативное «историографическое» «представление» о сущности эллинства? Эти далеко идущие вопросы мы можем здесь поставить и обсудить только в тех границах, которые намечает наше размышление о сущности греческого δαιμόνιονʼа.
Ясно, что в данном случае речь идет о соотношении и значимости «родов искусства» (архитектуры, изобразительного искусства, поэзии) и тем самым ставится вопрос о его сущности, причем не в целом и не в общих чертах, хотя и не в смысле его понимания как «выражения» культуры и «свидетельства» творческих способностей человека. Речь идет о том, каким образом само произведение искусства дает возможность проявиться бытию и приводит его в несокрытость. Но метафизическое размышление об искусстве далеко от такой постановки вопроса, потому что оно мыслит «эстетически». Это означает, что художественное произведение рассматривается в его воздействии на человека и его переживание. Поскольку рассматривается само произведение, оно воспринимается как результат творения, а это «творение», в свою очередь, понимается как выражение «остроты переживания». Если рассматривается художественное произведение, оно все равно воспринимается как «объект» и «продукт» творческого, вызванного какой-то причиной, переживания художника, то есть всегда и всюду расценивается с точки зрения субъективного человеческого восприятия (αἴσθησις). Эстетический подход к искусству и художественному произведению начинается как раз тогда (и это вызвано самой сущностной необходимостью), когда начинается метафизика. Это означает, что эстетическое отношение к искусству начинается в тот момент, когда ἀλήθεια превращается в ὁμοίωσις, то есть в уподобление и правильность вслушивания, представления и предоставления. Такая перемена начинается в метафизике Платона. Поскольку в доплатоновскую эпоху рассуждение об искусстве по существенным причинам просто не имеет места, все западноевропейское размышление о нем, разъяснение его природы и его историография от Платона до Ницше насквозь «эстетичны». Этот метафизический основополагающий факт несокрушимого господства эстетики не претерпевает никаких изменений (коль скоро мы удерживаем в поле зрения собственно метафизическое) даже тогда, когда вместо так называемого образованного и снобистски настроенного «эстета» мы, например, имеем дело с крестьянином, который, попав на «выставку» и увидев обнаженную женскую натуру, «переживает» свой «естественный» инстинкт. В любом случае крестьянин тоже «эстет».
Размышляя над этим непреложным фактом и принимая во внимание все прежде сказанное, мы, наверное, все сильнее начинаем подозревать, что, желая теперь составить какое-то представление о греческом искусстве, мы, вследствие эстетического подхода, который кажется нам само собой разумеющимся, приступаем к делу, заранее установив несоразмерные ракурсы видения данной проблемы, которые только искажают ее.
Согласно распространенному мнению существуют различные «роды» искусства, а само искусство есть формирование, образование и «творение» художественного произведения из соответствующего материала. В архитектуре и изобразительном искусстве используются камень, дерево, металл, краски, в музыке — звуки, в поэзии — слова. Далее считается, что, когда греки хотели показать, каковы их боги и как они правят, поэзия, конечно, играла важную роль, но не менее важным и, быть может, даже «более впечатляющим» образом (в силу большей наглядности) это совершалось непосредственно через статуи и храмы. Архитектура и изобразительное искусство своим рабочим материалом имеют относительно прочные вещества: дерево, камень, металл. Они не зависят от мимолетного дыхания быстро смолкающих и к тому же многозначных слов. Таким образом, архитектура, скульптура и живопись полагают существенные пределы поэтическому искусству. Ведь они в отличие от поэзии не нуждаются в словах. Однако именно это мнение и является ошибочным. Да, архитектура и изобразительное искусство не используют слов в качестве своего материала, но разве мог бы какой-нибудь храм или статуя когда-нибудь быть тем, что они есть, без слова? Ясно, что эти произведения не нуждаются в искусствоведческих историографических описаниях. Грекам, к счастью, не нужны были ни историографы искусства, ни историографы литературы, ни историографы музыки, ни историографы философии, и их описание истории — это нечто существенно иное, чем новоевропейская «история». У греков было слишком много того, к чему они были призваны в поэзии, мысли, зодчестве и ваянии.
Тот факт, что при строительстве какого-нибудь храма или ваянии статуи Аполлона слова как материал не «обрабатывались» и не «формировались», ни в коей мере не доказывает, что эти «произведения» (в том, что они есть и как они есть) не нуждаются именно в слове, соответствующем их сущности. Ведь сущность слова заключается не в его произнесении, не в разговорах и словесном шуме, равно как не в одном только коммуникативно-техническом сообщении. Статуя и храм ведут безмолвный разговор с человеком, находясь в несокрытом. Если бы не было безмолвствующего слова, тогда взирающий в несокрытое и «видящийся» бог, никогда бы не смог появиться как «вид» и абрис статуи, а храм, не находясь в сфере раскрытия слова, никогда не смог бы стать домом бога. Тот факт, что греки не описывают и не оговаривают свои «художественные произведения» с «эстетической точки зрения», свидетельствует о том, что эти произведения, хорошо хранимые, стояли в безмолвной ясности слова, без которого колонна не была бы колонной, фронтон фронтоном, а фриз фризом.
Только потому, что греки сущностно неповторимым способом, через свою поэзию и мышление, постигают бытие в несокрытости слова и сказания, их архитектурные и скульптурно-изобразительные произведения наделены тем благородством зодчества и изображения, которое они являют. Лишь при посредстве слова, а именно сущностно сказывающего слова, эти «произведения» подлинно есть в сфере сказания, «мифа».
Именно поэтому поэзия и мышление обладают здесь первенством, которое, правда, не осознается, если мы понимаем его «эстетически» как первенство какого-то «рода искусства» по отношению к остальным; впрочем, «искусство» вообще не является предметом «культурной» деятельности или стимуляцией переживаний: оно приносит в художественное произведение несокрытость бытия из господства самого бытия.
В μΰθος появляется δαιμόνιον. Подобно тому как слово и «слово-обладание» заключают в себе сущность человека, а именно отнесенность бытия к человеку, δαιμόνιον в той же самой сущностной широте, то есть в сфере отношения к целому сущего, определяет основную черту бытия в его отношении к человеку. Поэтому еще в позднем эллинстве, у Платона и Аристотеля, существенное значение имеет слово, которое именует отношение бытия к человеку. Это слово — εὐδαιμονία.
Переведенное на римско-христианский лад как beatitudo (то есть состояние того, кто есть beatus, то есть «блаженный»), оно стало обозначать лишь свойство человеческой души, а именно «блаженство». Однако на самом деле εὐδαιμονία подразумевает в соразмерной мере правящее εὐ — появление и присутствование δαιμόνιονʼα.
Речь идет не о каком-то «духе», обитающем где-то в груди человека. Сократовско-платоновский разговор о «даймонионе» (δαιμόνιον) как некоем внутреннем голосе означает только то, что настрой и побуждение этого голоса исходит не извне, то есть не из какого-то наличного сущего, а из самого невидимого и непостижимого бытия, которое ближе человеку, чем всякая назойливая очевидность сущего.
Там, где δαιμόνιον, то есть то божественное, которое вверяет себя несокрытости, произносится намеренно, там мы имеем дело со сказыванием сказания, то есть с μΰθος. В завершении платоновского диалога о сущности греческой πόλις говорится о δαιμόνιος τόπος. Теперь мы понимаем, что означает такое именование.
Τόπος означает место, но не просто какую-то пространственную очерченность в расходящемся во все стороны равнозначном множестве точек. Сущность греческого «места» заключается в том, что оно, выступая как то или иное «где», удерживает собранным в себе круг того, что в своем единстве принадлежит ему, относится к нему, этому месту. Такое место есть изначально собирающее удержание в самом себе всего того, что во взаимопринадлежности составляет единое целое, и потому в большинстве случаев оно есть многообразие мест, соотнесенных друг с другом своей взаимопринадлежностью; мы называем это местностью. Поэтому в простирающейся сфере местности есть свои пути, ходы и тропы. Δαιμόνιος τόπος — это «не-привычная местность». Теперь это означает некое «где», в которое, а точнее в его тропы и поля, намеренно проглядывает светоносное не-привычное и в котором сущность бытия бытийствует в особом смысле.
§ 7. Последнее сказание эллинства о сокрытой противосущности ἀλήθεια,
то есть о λήθη (II).
Заключительный миф Платоновой «Политейи». Равнина λήθη
а) Местность не-привычного: поле сокрытия, влекущего в забвение.
Исключительность пребывания не-привычного в Лете.
Взор ее пустоты и ничто лишения.
Вода из реки под названием «Избавляющая от забот»,
не могущая удерживаться ни в каком сосуде.
Спасение несокрытого в мыслящем мышлении и мера пития мыслителя
Местность, о которой говорится в заключительном мифе Платоновой «Политейи», не находится на «земле» или на «небе». В этой местности, напротив, обнаруживается то и только то, что указывает на принадлежащее земле, то есть на подземное, а также на находящееся над землей. Подземное и надземное суть те места, из которых «демоническое» проливает, снизу или сверху, свой свет на землю. Это места, в которых обитают боги. В местности, проникнутой не-привычным, встречаются приходящие из подземного и надземного, чтобы (прежде чем вновь оправиться в чреватое смертью странствие по самой земле) пройти весь δαιμόνιος τόπος. Во время странствия через местность не-привычного ее места посещаются в соответствии со специально определенными остановками и временем продвижения.
Последнее место в этой местности не-привычного, а именно то, в котором путешественники останавливаются непосредственно перед переходом в новое смертоносное путешествие, называется τὸ τής Λήθης πεδίον, то есть равнина отъемлющего, опустошающего сокрытия в смысле забытия. Эта равнина — средоточие всего странствия. Здесь то «демоническое», которое свойственно всей местности, достигает своего предела и высшего смысла. Упомянутый нами воин рассказывает о том, что, приближаясь к этой равнине, испытываешь нестерпимый всеопаляющий зной и всеохватную духоту; καὶ γὰρ εΐναι αὐτὸ (τὸ τής Λήθης πεδίον) κενὸν δένδρων τε καὶ ὅσα γή φύει (621 а 3—4) («кроме того, сама эта равнина отъемлющего сокрытия лишена всякой растительности и вообще пуста всем тем, что восходит на земле»). Эта равнина противоборствует всякой φύσις. Λήθη не допускает у себя никакого φύειν, никакого восхождения и произрастания. Она предстает как сущность, противоборствующая сущности φύσις. Если мы понимаем φύσις как «природу», a λήθη как «забвение», то нам никогда не понять, почему в данном случае одно противостоит другому, почему вообще их надо так подчеркнуто связывать. Если же мы осмысляем их по-гречески, тогда становится ясно, что λήθη как сущностное лишение и сокрытие нигде и никогда ничему не дает взойти и таким образом противостоит всякому исхождению, то есть противостоит φύσις. Равнина λήθη противоборствует всякому раскрытию сущего и, следовательно, привычного. В своем сущностном месте, каковым она сама и является, λήθη заставляет всё исчезнуть. Однако отличительной особенностью этого места является не только полнота совершающегося там лишения, то есть дело не только в количественной мере сокрытия. Напротив, надо иметь в виду, что в сущности лишения и изъятия присутствует само «прочь» лишенного. Это «прочь» сокрытого и отнятого — не «ничто»: то, что дает возможность исчезнуть всему увлекаемому в лишение, есть то, что единственно и предает себя этому месту, вверяет себя ему. Это место остается пустым — в нем вообще нет ничего «привычного». Однако здесь пустота есть нечто пребывающее и присутствующее. Ничтожное (das Nichtige) пустоты есть ничто лишения. Пустота этого места есть тот взор, который взирает в него и «наполняет» его. Λήθη как место есть то самое «где», в котором не-привычное бытийствует в своеобразной исключительности. Равнина λήθη по-особому «демонична».
Однако поскольку в своей области это место все-таки позволяет чему-то появиться и присутствовать, появляющееся и принадлежащее данной равнине само должно быть ей сродни. Единственное, что странники здесь встречают, — это река. Но одно ее имя уже говорит о том, что она «отсюда» и, таким образом, ни в чем не противоречит сущности λήθη. Река, протекающая в этой равнине, называется Ἀμέλης, то есть «Не знающая забот». Воин, который рассказывает μΰθος об этом δαιμόνιος τόπος, говорит следующее: σκηνάσθαι οΰν σφάς ἤδη ἑσπέρας γιγνομένης παρὰ τὸν Ἀμέλητα ποταμόν, οΰ τὸ ὕδωρ ἀγγεΐον οὐδέν στέγειν (621 а 4-6): («когда наступил вечер, они расположились у реки «Избавляющая от забот», вода которой не может удержаться, то есть сокрыться, ни в каком сосуде» (στέγη — «крыша», «покрытие»). Эта вода не знает заботы (μελέτη) о том, что противостоит исчезновению, упущению и, следовательно, опустошающему, отъемлющему сокрытию. Эта вода (которая не может удержаться ни в каком сосуде, потому что сама есть чистое упущение) не знает заботы об ἀλήθεια, заботы о несокрытости, не заботится о том, чтобы сущее было сокрыто в несокрытом и постоянно там оставалось. Здесь «забота» ни в коей мере не подразумевает озабоченности или омраченности по поводу какого-то внешнего состояния мира и человека. Напротив, забота в данном случае есть забота только о несокрытости и, таким образом, она принадлежит сфере δαιμόνιον. Забота принадлежит событию раскрытия и сокрытия, и потому противоположная ей «беззаботность» — это не какая-то беспечность по отношению к каким-то вещам и не просто свойство человека: «беззаботность» есть одна лишь неозабоченность судьбой ἀλήθεια, потому что она озабочена царствованием λήθη, опустошающего, отъемлющего сокрытия. Поэтому данная без-заботность тоже остается «даймонионом». Когда в сфере существенного мышления, где осмысляется сущность бытия и несокрытость, речь заходит о «заботе», здесь мыслится нечто отличное от дурного настроения человеческого «субъекта», который копается в «ничто в себе», в пустой ничтожности опредмеченного «переживания».
Итак, вода из реки, которая течет по равнине λήθη, не удерживается ни в каком сосуде и влечет только к лишению, которое всё уводит и всё скрывает. Однако каждый, кому после прохождения через δαιμόνιος τόπος предстоит начать новое странствование на земле, сначала должен испить воды из упомянутой реки, причем выпить он должен определенную меру: μέτρον μέν οΰν τι τοΰ ὕδατος πάσιν ἀναγκαΐον εΐναι πιεΐν (621 а 6-7) («все должны были выпить этой воды в меру»). Когда человек совершает на земле свое смертоносное странствие, его пребывание на ней и нахождение посреди сущего характеризуется тем, что в результате испитой им воды начинает царствовать сокрытие этого сущего и его лишение, так что сущее есть только постольку, поскольку одновременно и вопреки этому сокрытию и ускользанию царствует несокрытость, в которой может сохраняться и сохраняется несокрытое. Выпив какую-то меру этой воды, человек, возвращающийся на землю, приносит с собой и свою сущностную принадлежность сокрытию. В какой-то степени все находятся в сущностной области сокрытия, но τοὺς δέ φρονήσει μὴ σῳζομένους πλέον πίνειν τοΰ μέτρου (621 а 7—8), то есть «те, кого не спасало умение всмотреться, пили без меры». В данном случае φρόνησις означает умение всмотреться, присущее тому всматриванию (Ein-sehen), которое взирает в то, что представляет собой собственно усматриваемое и несокрытое.
Подразумеваемая здесь способность взять ракурс взирания-в (Ein-blickname) есть не что иное как возможность осуществить сущностное видение, то есть «философию». Φρόνησις здесь подразумевает «философию», и это именование означает: иметь взор, направленный в сущностное. Тот, кто может так взирать, называется σωζόμενος, то есть «спасаемый», причем он «спасен» в отношении бытия к человеку. Глагол σῴζειν так же существенен, как и существительные φρόνησις и φιλοσοφία. Греческие мыслители употребляют выражение σῴζειν τὰ φαινόμενα («спасать являющееся»), что означает: удерживать себя-показывающее как себя-показывающее и сохранять его в не-сокрытости именно так, как оно себя показывает, то есть удерживать его от ускользания в сокрытие и искажение. Тот, кто таким образом спасает (сохраняет и удерживает) являющееся в несокрытое, сам оказывается спасенным для несокрытого, сохраненным для него. Те же, кто не таковы, кому недостает этого сущностного взора, остаются ἄνευ φιλοσοφίας, то есть «без философии». Таким образом, «философия» — это не просто занятие для мысли, увлеченной игрой общими понятиями, причем такое занятие, которому можно предаваться, а можно и не предаваться, поскольку в обоих случаях ничего существенного не происходит. Философия — это окликнутость самим бытием. Философия как таковая есть основной способ отношения человека, находящегося посреди сущего, к этому сущему. Лишенные философии лишены «взора-вглубь». Они предаются тому, что появляется прямо перед ними и так же исчезает. Они ввергнуты в упущение сущего и в его самосокрытие. Они без меры пьют воду из упомянутой реки, избавляющей от забот. Они суть те беззаботные, которым хорошо в безмыслии, которые уклонились от всякого призыва мыслить. Эти беззаботные суть те, кто радуется возможности позабыть о своей принадлежности к народу поэтов и мыслителей (в эти дни министерство пропаганды громко возвестило о том, что сейчас немцам нужны не «мыслители и поэты», а «пшеница и масло»).
«Философия» как внимание зову бытия, обращенному к человеку, есть прежде всего забота о бытии, а вовсе не «образование» и приобретенные сведения. Поэтому можно обладать обилием сведений о различных философских направлениях, но самому совсем не быть «философским» и никогда по-настоящему не «философствовать». С другой стороны, можно быть окликнутым бытием, совершенно не зная, что это такое и не отвечая на его призыв должным по глубине мышлением.
Этому подлинно мыслящему мышлению принадлежит знание и такая тщательность размышления и слова, которые существенно превосходят все требования одной лишь научной точности. Согласно опыту греческих мыслителей, такое мышление всегда остается спасением несокрытого от сокрытия, понимаемого как утаивающее лишение. В мышлении оно постигается исконнее, чем где-либо. Мыслитель как никто другой должен испивать лишь определенную меру воды из упомянутой реки. «Смотрение» в смысле осуществления сущностного взора настоящего мышления не совершается само по себе: над ним постоянно висит угроза ошибки, причем не такой, которая может случиться при обычном «смотрении» и «при-сматривании». Но что происходит с тем человеком, который не только пьет эту воду чрезмерно, но всегда пьет только ее одну?
ПОВТОРЕНИЕ
1) Равнина и Лета. Божественное у греков: не-привычное в привычном.
Θεΐον в изначальных ἀλήθεια и λήθη. Ἀλήθεια и θεά (Парменид)
В эпоху, когда эллинство начинает расставаться со своей сущностной историей, в нем еще раз появляется сказание о той сущности, которая противоречит сущности ἀλήθεια, то есть появляется сказание, μΰθος, рассказывающий о λήθη. В этом сказании, завершающем платоновский диалог «Политейя», в самом конце рассказывается о λήθη. Такая констатация правильна, но, будучи выраженной в столь общей форме, она может привести к неправильному пониманию упомянутой сущности λήθη. На самом деле речь идет о τὸ τής Λήθης πεδίον, то есть о равнине сокрытия, влекущего в забвение. Платон не говорит: τὸ πεδίον τής Λήθης, он говорит: τὸ τής Λήθης πεδίον. Поначалу связь между равниной и λήθη остается неясной, потому что словесное выражение этой связи, выраженное генитивом, можно толковать по-разному. Во-первых, можно говорить о равнине, в которой предстает и появляется λήθη. Если мы воспринимаем ситуацию именно так, тогда равнина и находящаяся в ней λήθη как бы равнодушно соседствуют и не более того. С другой стороны, можно предположить, что характер данной равнины прежде всего определяется природой самой λήθη, и тогда равнина становится местом, которое соответствует только этой λήθη. В таком случае равнина и λήθη хотя и отличаются друг от друга, но не соседствуют равнодушно. Наконец, равнина и все ее внутреннее, «равнинное» содержание может принадлежать самой λήθη. В таком случае данная равнина и λήθη больше не разнятся: λήθη сама является этой равниной. Она — вместилище, некое «где», так что сокрытие, влекущее в забвение, не совершается где-то на равнине: напротив, оно само раскрывает себя как некое «где» для всего того, что должно в него войти. Именно так и надо мыслить «равнину Леты». Она образует единое целое с другими местами, которые вместе составляют τόπος δαιμόνιος, то есть «демоническую местность».
Раскрытие сущности того, что именуется словом δαιμόνιον, ведет к прояснению сущности θεΐον. Все вместе становится ракурсом, помогающим осмыслить природу греческих божеств, хотя этот ракурс мы поняли бы совершенно превратно, если бы решили, что теперь именно мы сами можем напрямую разобраться в сущности этих богов и тем самым вполне приблизиться к ним. Намеченный ракурс не простирается так далеко. Он только напоминает, что до тех пор, пока сущность греческой ἀλήθεια вообще остается «засыпанной», нам не дано даже того, чтобы испытывать хотя бы даль греческих богов, признавать ее как событие нашей истории и постигать тех богов как богов, которые некогда были. Вместо этого мы постоянно рискуем, предавшись литературным упражнениям, с помощью книг, докладов и статей внушить себе, убедить себя в том, что мы связаны с ними непосредственно. Причем не важно, какова эта литература по своему характеру: скучные ли ученые труды, написанные религиоведами, или какая-нибудь поэтическая обработка событий из истории религии. Наверное, путь к этим богам и к их дали ведет через слово. Но это не «литература» (знатокам хорошо известно, что прекрасная книга В. Ф. Отто «Греческие боги» не принадлежит к такой «литературе», хотя и в ней автор не вступает в сферу ἀλήθεια).
Для греков божественное утверждается непосредственно в не-привычном привычного. Оно проявляется в этом отличии одного от другого. При этом мы нигде не видим распахивания какого-нибудь необыкновенного сущего, через которое якобы только и должно пробудиться божественное и родиться чувство его восприятия. Поэтому и вопрос о так называемом «дионисийском» начале должен раскрываться только как греческий вопрос. У нас есть много причин сомневаться в правильности ницшевского истолкования этого начала, и вполне можно предположить, что здесь мы имеем дело с грубым навязыванием эллинскому миру того некритического «биологизма», который был характерен для XIX в. В эллинстве всюду прежде всего царствует простая ясность бытия, позволяющая сущему восходить в сияние и погружаться во тьму.
Поэтому то, что принадлежит к появлению бытия, еще имеет в себе нечто от не-привычного, так что нам не надо как бы задним числом навязывать бытию божественное и привносить его в него. Если же к сущности изначального бытия принадлежит ἀλήθεια, а вместе с нею и сущностно противоборствующая ей λήθη, тогда обе изначально предстают как θεΐον. Поэтому и для Платона λήθη еще обладает «демонической» сущностью. Станем ли мы после этого удивляться тому, что в изначальном мышлении Парменида ἀλήθεια появляется как θεά, как богиня? Теперь нас гораздо больше удивило бы, если бы это было не так.
В «мифе» Платона λήθη предстает как δαιμόνιον равнины, которая раскинулась не в «здешнем», а в «тамошнем». Эта равнина — последнее место, где путешественники останавливаются перед их переходом из «тамошнего» в «здешнее». О «равнине Леты» сказано следующее: κενὸν δένδρων τε καὶ ὅσα γή φύει, то есть она «лишена всякой растительности и вообще пуста всем тем, что восходит на земле».
b) Мера влекущего в забвение сокрытия несокрытости.
Ἰδέα Платона и утверждение анамнесиса (как и забывания) в несокрытости.
Λήθη: πεδίον. Начало обеих поэм Гомера и речение Парменида.
Незабвенность, которую обретает ἀλήθεια через влечение в забвение,
характерное для λήθη.
Господство технической процедуры над опытом, начавшееся с Платона (τέχνη).
Отрывок из «Илиады» (XXIII, 358—361)
Τόν δέ ἀεὶ πιόντα πάντων ἐπιλανθάνεσθαι (621 а 8-9) — «у того же, кто постоянно пьет [эту воду], отношение к сущему в его целом, а также к себе самому находится в сокрытии, которое всё уводит прочь и ничему не позволяет удержаться». О таком человеке можно сказать больше. Как человек он просто не мог бы быть на земле, потому что все сущее пребывало бы в сокрытии и вообще не было бы никакого несокрытого, с которым человек, раскрываясь, то есть, для греков, совершая сказывание (μΰθος, λόγος), мог бы устанавливать связь и таким образом быть человеком. Если забвение царствует во всей своей полноте, то есть является без-мерным и предстает как сокрытие, оно, сокрытие, не может стать сущностной основой для существа человека, потому что вообще не допускает никакого раскрытия и таким образом не дает сущностной основы для несокрытости. С другой стороны, отсюда становится ясно, что если уводящее прочь сокрытие совершается в определенной мере, оно само принадлежит к возможности несокрытости. В раскрытости правит λήθη как сокрытие, которое ничему не дает взойти и таким образом всё увлекает прочь, в себя самое, но тем не менее как бы держит наготове сущностную основу раскрытия.
Человек происходит из местности не-привычного, божественного места влекущего в забвение сокрытия. Таким образом, поскольку λήθη принадлежит к сущности ἀλήθεια, сама не-сокрытость может быть не только одним лишь устранением сокрытости. Частица альфа (ἀ-) в слове ἀ-λήθεια ни в коей мере не означает одного лишь неопределенного «не». Напротив, в отношении к сокрытию как ускользанию появляющегося и самого появления необходимо спасение и удержание не-сокрытого. Такое удержание основывается на постоянном спасении и сохранении. Сохранение несокрытого в чистоте своего существа совершается тогда, когда человек свободно добивается несокрытого, не переставая это делать на протяжении всего своего смертоносного путешествия на земле. Свободно добиваться чего-либо и думать только о нем по-гречески называется μνάομαι; «постоянное», непрестанное, что сопутствует всему пути странствия, по-гречески называется ἀνά. Непрестанное помышление о чем-то, чистое спасение помысленного в несокрытость есть ἀνάμνησις. Сущее, которое показывает себя и как таковое приходит в несокрытость, Платон понимает как вступающее в зримость, видимость и таким образом как восходящее в свой вид. «Вид», находясь в котором нечто присутствует несокрытым, т. е. есть, по-гречески называется εΐδος. Зримость и облик зримого, который чем-то предоставляется и через который это нечто взирает на человека, есть ἰδέα. С точки зрения Платона несокрытость совершается как ἰδέα и εΐδος. В них и через них присутствует сущее, то есть присутствующее. Идея есть вид, посредством которого то или иное раскрывающееся «видит» человека, смотрит на него. Ἰδέα есть присутствие присутствующего: бытие сущего. Однако поскольку ἀλήθεια есть преодоление λήθη, несокрытое должно спасаться в несокрытость и в нем скрываться. Человек может устанавливать свое отношение к сущему как несокрытому только таким образом, что он постоянно думает о несокрытости несокрытого, то есть об ἰδέα и εΐδος, тем самым спасая сущее от его погружения в сокрытие.
Поэтому с точки зрения Платона и вообще по самому существу греческой мысли отношение к бытию сущего есть ἀνάμνησις. Это слово переводят как «воспоминание» или даже «припоминание», перемещая всё в «психологическую» плоскость и вообще не затрагивая сущностного отношения к ἰδέα. Когда мы переводим ἀνάμνησις как «припоминание», складывается впечатление, будто здесь речь идет только о том, что человеку пришло в голову что-то, однажды «позабытое» им, но теперь мы знаем, что греки постигают забывание как событие сокрытия, и, следовательно, так называемое «воспоминание», в свою очередь, основывается на несокрытости и раскрытии.
Однако у Платона одновременно с превращением ἀλήθεια в ὁμοίωσις начинается изменение сущности λήθη и, стало быть, изменение противоборствующего ей «анамнесиса» (ἀνάμνησις). Событие влекущего в забвение сокрытия превращается в человеческое отношение забывания, а то, что противостоит λήθη равным образом превращается в человеческое же извлечение забытого из забытья. Но пока мы осмысляем платоновскую ἀνάμνησις, а также глагол ἐπιλανθάνεσθαι только с более поздней точки зрения, то есть, говорят современным языком, понимаем их в «субъективном» смысле только как «воспоминание» и «забывание», мы не нащупываем той сущностной основы, которая в мышлении Платона и Аристотеля еще раз вспыхивает своим последним светом.
Сказывание о воде из реки по имени «Избавляющая от забот» — это последнее слово упомянутого воина Эра о τόπος δαιμόνιος. Μΰθος достигает кульминации в сказании о равнине λήθη. Сущностный взор всё в себе сосредотачивающего мышления, взор, который находит словесное выражение в диалоге о сущности греческой πόλις, направлен на сферу опустошающего и увлекающего прочь сокрытия. Это единственно необходимое: ведь ἀ-λήθεια, которую надо постичь, сама по своей сущности укоренена в λήθη. Между ними нет ничего опосредствующего, нет никакого перехода, потому что обе по своей сущности напрямую принадлежат друг другу. Всюду, где такая взаимопринадлежность глубинно сущностна, переход от одного к другому есть нечто «внезапное», совершающееся мгновенно. Поэтому упомянутый воин завершает свой «рассказ» такими словами: ἐπειδὴ δέ κοιμηθήναι καὶ μέσας νύκτας γενέσθαι, βροντήν τε καὶ σεισμὸν γενέσθαι, καὶ ἐντεύθεν ἐξαπίνης ἄλλον ἄλλῃ φέρεσθαι ἄνω εἰς τὴν γένεσιν, ᾄττοντας ὥσπερ ἀστέρας (621 b 1—5): «Когда же они легли спать, в самую полночь раздался гром, разразилось землетрясение, и внезапно их понесло оттуда [то есть с поля λήθη] вверх в восходящее возвышение [к бытию на земле] как звезды [падающие звезды]». Ἀυτὸς δέ τοΰ μέν ὕδατος κωλυθήναι πιεΐν (621 b 4—5) («сам же он был удержан от пития этой воды»).
Итак, становится ясно, что μΰθος не вырывает нечто несокрытое у сокрытости, но говорит из той сферы, в которой первое и второе исконным образом сущностно едины, в котором бытийствует изначальное. Ὅπῃ μέντοι καὶ ὅπως εἰς τὸ σώμα ἀφίκοιτο, οὐκ εἰδέναι, ἀλλʼ ἐξαίφνης ἀναβλέψας ἰδεΐν ἕωθεν αὑτὸν κίμενον ἐπὶ τῄ πυρᾴ (621 b 5-7) («Он не знает, по какому пути и каким образом он достиг своего «телесного» присутствования; внезапно, открыв глаза, он увидел, что светает и что он сам лежит на костре»).
Воззрение в «идею» и узрение ее, восходящий свет, рассвет, огонь и костер — всё это называет столь существенные черты и связи греческого мышления, что если мы пожелаем увидеть здесь одно только образное завершение рассказа, наше вслушивание в заключительное слово «мифа» будет неверным. Правда, здесь нет и повода вдаваться в анализ этих связей, хотя нельзя, наверное, не обратить внимания на то, что еще отмечает Сократ, то есть в данном случае сам Платон, по поводу только что рассказанного «мифа». Καὶ οὕτως, ώ Γλαύκων, μΰθος ἐσώθη καὶ οὐκ ἀπώλετο, καὶ ἡμάς ἂν σώσειεν, ἂν πειθώμεθα αὐτώ, καὶ τὸν τής Λήθης ποταμὸν εΰ διαβησόμεθα καὶ τὴν ψυχὴν οὐ μιανθησόμεθα (621 b 8—12) («Таким-то вот образом, Главкон, это сказание спаслось, а не погибло; оно спасет и нас, если мы будем послушны ему; тогда мы должным образом перейдем реку, текущую в долине λήθη, и не оскверним «души», то есть нашей главной способности сказывать сущее»).
Снова речь идет о σῴζειν, то есть о спасении. Сохраненным и сокрытым оказывается сказание о сущности λήθη, то есть об опустошающем, влекущем в забвение сокрытии. Тот факт, что этот μΰθος в целом должен сокрыть в несокрытое именно эту в последний раз сказываемую сущность сокрытия, мы осознаем благодаря тому, что Платон из всего содержательного богатства данного «мифа» напоследок еще раз называет τὸν τής Λήθης ποταμὸν, то есть реку, текущую в долине λήθη. Уже в древности поверхностное прочтение этого отрывка приводило к ложному представлению о некоей «реке Лете», как будто сама λήθη и есть река. На самом же деле λήθη не является рекой и не символизируется ею. Λήθη — это πεδίον, то есть равнина, область, сущность того места и остановки в странствии, откуда совершается внезапный переход к другому месту и остановке, которые, как не-сокрытость сущего, властно пронизывают собою все смертоносное путешествие человека. Единственное, что может быть в пустой и необитаемой равнине всепохищающего сокрытия, — это река, да и то только потому, что ее вода сродни самой сущности этой равнины, поскольку не удерживается ни в каком сосуде и потому распространяет это сокрытие во все стороны, где становится питием. Пройти равнину λήθη можно только путем прохождения через то единственное, что в ней есть, то есть сквозь воду этой реки. Если бы речь шла просто о внешнем переходе, тогда вода лишь текла бы мимо проходящего, стекала бы с него, никак не затрагивая его сущности. На самом же деле это прохождение должно происходить и происходит только тогда, когда вода становится питьем и, следовательно, входит в человека, определяя его из глубины его сущности. Только таким образом решается, как человек, призванный в несокрытость, в соответствии со своим нынешним, тем или иным, отношением к опустошающему сокрытию будет впредь находиться в несокрытом. Должное, то есть выверенное в своей мере прохождение реки, текущей через равнину Леты, состоит в умеренном испитии ее воды. Тем не менее сущность человека как такового, а не отдельного человека в его судьбе, может быть спасена только в том случае, когда человек как то сущее, каковым он является, прислушивается к сказанию о сокрытии. Только таким образом он может следовать тому, чего требует раскрытие несокрытого и сама несокрытость в своей сущности.
Не проникнув в сущность того «демонического», которое характеризует λήθη, мы никогда не сможем по достоинству оценить тот удивительный факт, что «матерью всех муз» и таким образом сущностным началом поэтического творчества является «Мнемозина», первоначальное свободное спасение и сохранение бытия, без которого это творчество всюду оказывается без творимого. Всматриваясь в сущностную взаимосвязь между бытием и несокрытостью, несокрытостью и спасением от сокрытого, спасением и сохранением, бытием и словом, словом и сказанием, сказанием и поэтическим творческом, творчеством и мышлением, мы по-иному, не так, как обычно, начинаем воспринимать начальные строки поэм Гомера:
Μήνιν ἄειδε, θεά, Πηληϊάδεω Ἀχιλήος οὐλομένην («Илиада»).
Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοΰσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλά πλάγχθη («Одиссея»),
Мы видим, что поэт призывает «богиню» и «музу» не ради торжественного вступления: в обоих случаях говорится, что сказание поэтического слова есть речение и песнь самого бытия, а поэт предстает лишь как ρμηνεύς, то есть истолкователь слова. Не поэт призывает богиню: еще до того, как он произносит свое первое слово, он сам уже оказывается призванным, его призывает бытие, и, отвечая на этот призыв, он выступает как спасающий бытие от его «демонического» ускользания в сокрытие.
Когда Парменид в начале своего речения называет богиню Ἀλήθεια, он это делает не потому, что хочет, как считают филологи, построить вступление к своей так называемой «дидактической поэме» по принятому поэтическому образцу. На самом деле, называя богиню, он называет то сущностное место, в котором мыслитель стоит как мыслитель. Это место есть τόπος δαιμόνιος.
Для нас же, сегодняшних, «миф» о λήθη, которым завершается диалог о πόλις, является последним сказанием эллинства о той скрытой сущности, которая противостоит сущности ἀλήθεια. Эта сущность, противостоящая раскрытию, влекущая в сокрытое и «у-держивающая» нераскрытость, уже заранее «держит» в себе ее, несокрытости, сущность. То, что «противоборствует» ἀλήθεια, не просто противостоит ей, не является всего лишь каким-то ее отсутствием или удалением простого отрицания. Λήθη, то есть забытие как сокрытие, влекущее в забвение, есть то изымание из несокрытого, благодаря которому только и удерживается сущность «алетейи», оставаясь таким образом незабытой и незабываемой. Человек легкомысленно считает, что нечто скорее всего удерживается и легче всего остается удерживаемым тогда, когда оно постоянно находится под рукой и всегда ощутимо. Однако на самом деле (и теперь мы размышляем об этом в ракурсе несокрытости) ускользающее и увлекающее прочь сокрытие есть как раз то, что максимально настраивает человека на удержание и верность удерживаемому. Для греков увлекающее прочь и ускользающее сокрытие есть самое простое (das Einfachste) всего простого, сохраняемое ими в том, что они постигают как несокрытое и чему дают возможность войти в присутствование. Поэтому Платон не мог выдумать «миф» о λήθη. Никакой μΰθος нельзя выдумать, его даже нельзя отыскать как плод каких-либо исканий. Слово сказания есть ответ на слово призыва, в котором бытие само направляет себя человеку и лишь тем самым указывает путь поиска в сфере заранее раскрытого.
Ясно, что эпоха, в которую жил Платон, а жил он на четыре столетия позже Гомера, — это уже не эпоха Гомера. Способность и, стало быть, сила и склонность, а также пригодность к тому, чтобы выразить призыв бытия, все больше и больше заняты упорядочением и обустройством в сущем того привычного, которого уже удалось достичь в соответствии с отношениями человеческого поведения, установленными самим человеком. Слово сказания от этого не становится слабее, но, наверное, внимание этому слову со стороны человека становится, так сказать, более раздробленным и рассеянным и в результате — слишком неспокойным, чтобы постичь как подлинно бытийствующее то простое (das Einfache), что бытийствует непрестанно, потому что бытийствует изначально. В эпоху завершения эллинства мы уже обнаруживаем начатки того исторического настроя, который в свое время определит эпоху западноевропейского Нового времени. Так как в этой эпохе, вследствие своеобразно замаскированной ненадежности всего вокруг, надежность, понятая как безусловная достоверность, значит всё, обеспечение надежности становится основной чертой поведения. Это обеспечение предстает здесь не как некое упрочение, осуществляемое лишь задним числом, а как сразу атакующее самоутверждение, осуществляемое ради достижения надежности. Содержательное и вещное, что есть во всем предметном, воспринимается в своем качестве как неисчерпаемая возможность опредмечивания в смысле придания незыблемого постоянства миру и «жизни». Система определенных приемов (τέχνη) и способы их осуществления начинают главенствовать над опытом. Течение, в своем когда-то таинственном стремлении полное замысловатых извивов и поворотов, уже не омывает им же намеченных берегов, но посреди однообразных бетонных набережных, которые уже не похожи на берега, прямиком несет свои воды к заранее намеченной «цели». Тот факт, что именно в эпоху Сократа и Платона слово τέχνη (которое, правда, в ту пору означало нечто существенно иное, чем «техника» в современном ее понимании) начинает употребляться и осмысляться все чаще, свидетельствует о том, что система заранее продуманных действий берет верх над опытом. Способность прислушиваться к сказанию ослабевает и начинает утрачивать свою изначальную сущность.
Сказание Гомера не умолкло. Μΰθος τής λήθης, хотя ему и без того свойственно безмолвствование, все-таки есть. Поэтому и μΰθος Платона остается мыслящим памятованием λήθη, а не просто размышлением о ней, называемой Пиндаром и Гесиодом. Это вспоминающее сказывание, характерное для «мифа», хранит в себе изначальное раскрытие сущности λήθη и одновременно дает нам возможность более основательно поразмыслить над той сферой, в которой уже Гомер употребляет антоним к λήθη, то есть говорит об ἀλήθεια.
В предпоследней книге «Илиады» есть отрывок, о котором надо упомянуть, завершая наше рассуждение о внутренне противоречивой сущности ἀλήθεια (см. XXIII, стихи 358 и след.). Речь идет о торжественном сожжении и погребении Патрокла, друга Ахилла, а также об устроенных в честь павшего играх, открывшихся состязанием колесниц. После того как Ахилл установил ряд участников состязания, σήμηνε δέ τέρματʼ Ἀχιλλεὺς τηλόθεν ἐν λείῳ πεδίῳ. παρὰ δέ σκοπὸν εΐσεν ἀντίθεον Φοίνικα, ὀπάονα πατρὸς ἑοΐο, ὡς μεμνέῳτο δρόμους καὶ ἀληθείην ἀποείποι. «Ахилл указывает вдали на равнине объездную мету [пути] [выявив ее] и рядом с этой зримой отметиной пути ставит божественного Феникса, соратника своего отца, дабы тот удерживал во взоре бег [колесниц] и в соответствии с виденным выражал несокрытое в слове».
Ὡς μεμνέῳτο δρόμους, то есть чтобы он удержал, не дал впасть в сокрытие, ход забега. Здесь ἀλήθεια, то есть несокрытое (das Unverborgene) состязания и, стало быть, само состязание в своем появляющемся присутствовании однозначно основывается на μεμνέῳτο, то есть можно было бы сказать — на «незабывании». Однако при таком подходе мы можем исказить существо дела. Хотя в греческом языке с помощью глаголов μιμνῄσκειν и μέμνημαι осмысляется сущность, противоборствующая тому, что выражается глаголом ἐπιλανθάνεσθαι, последний все-таки определяется из его отношения к λήθη. В соответствии с этим в исконном понимании глагола μιμνῄσκειν заключено значение удерживания, а именно удержания несокрытого как такового. Однако это удержание — не просто взятие на заметку, а осуществление возможности устоять в несокрытости: пребывание в ней как в чем-то таком, что хранит несокрытое от возможного посягновения на него того сокрытия, которое стремится увлечь его в себя.
ПОВТОРЕНИЕ
2) Происхождение человека из не-привычной местности влекущего
в забвение сокрытия.
Начало изменения основной позиции человека.
Единовластие ἀλήθεια и μέμνημαι.
Отрывок из «Илиады» Гомера (XXIII, 358-361)
В мифе, рассказанном в конце «Политейи», говорится о том, что человек, который, находясь в «здешнем», совершает смертоносное прохождение через сущее посреди сущего в целом, исходит из не-привычной местности, где царствует сокрытие, увлекающее в забвение. Поэтому, когда человек возвращается в «здешнее», он должен, противоборствуя этому сокрытию, которое он приносит с собой как наследие той местности, первым делом свободно стремиться к памятованию о сущем (μνάομαι). Это совершается тогда, когда он упраздняет сокрытие и тем самым дает возможность появиться не-сокрытому. Сущее обнаруживается только в несокрытости, потому что человека, вновь перемещенного в «здешнее» после того как он испил воды из реки, текущей через равнину Леты, окружает сокрытость. Необходимость существования ἀλήθεια и ее сущностная связь с λήθη, которая предшествует ей и выступает ее основой, согласно рассматриваемому нами «мифу» истолковывается из сущностного происхождения и судьбы человека. Эта подчеркнутая обращенность к человеку уже свидетельствует о том, что основная установка мышления внутри эллинства претерпевает изменения. Такая перемена означает начало метафизики. История эллинства клонится к завершению своей бытийно-сущностной возможности. Λήθη больше не воспринимается в чисто событийном плане: она осмысляется в контексте человеческого поведения в смысле позднейшего «забывания».
Но если эта самая λήθη, как бы мы ее ни понимали, изначально является той сущностью, которая противоборствует сущности ἀλήθεια, если этой λήθη как влекущему в забвение сокрытию соответствует потеря в смысле забывания, тогда и удержание и сохранение изначально должно соответствовать тому, что обозначается словом ἀλήθεια. Там, где бытийствует ἀλήθεια, царствует удержание того, что спасено от утраты. Несокрытость и удержание, ἀλήθεια и μέμνημαι едины в своем бытии. Однако эта исконная взаимопринадлежность должна также (именно в силу своей изначальности) иметь неприметность того, что, будучи истоком, бытийствует само по себе в своей бытийной сущности. И этому есть свидетельство. Мы имеем в виду отрывок из «Илиады» Гомера (XXIII, 358—361). Перед началом состязания колесниц Ахилл назначил Феникса к тому, «дабы тот удерживал во взоре бег [колесниц] и в соответствии с виденным выражал несокрытое в слове» (ὡς μεμνέῳτο δρόμους καὶ ἀληθείην ἀποείποι).
Здесь надо снова, хотя лишь мимоходом, указать на то, что ἀλήθεια и ἔπος (несокрытость и слово) называются вместе.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЧЕТВЕРТЫЙ АСПЕКТ В ПЕРЕВОДЕ ΑΛΗΘΕΙΑ КАК «НЕСОКРЫТОСТИ».
ОТКРЫТОЕ И СВОБОДНОЕ ПРОСВЕТА БЫТИЯ. БОГИНЯ «ИСТИНА»
§ 8. Более полное значение рас-крытия. Переход к субъективности.
Четвертое указание: открытое (das Offene), свободное (das Freie).
Событие ἀλήθεια в западном мире. Беспочвенность открытого.
Отчуждение человека
а) Подготовка к четвертому указанию.
О прежнем недостаточном переводе ἀλήθεια словом «несокрытость».
Двойственность слова «рас-крытие» и его более полное значение.
Внутреннее противоборство в изначальной ἀλήθεια.
Близость и начало. Гомер.
Двойственность явления: чистое восхождение (das Aufgehen) и встреча.
«Яйность». Кант, Декарт, Гердер, Ницше.
Первенствующее значение самости со времен Платона и Аристотеля
(Περὶ Ψυχής 8, 431; Μετ. α 1)
В последнем, 361 стихе из приведенного нами отрывка из «Илиады» μέμνημαι и ἀλήθεια соседствуют, то есть несокрытость предстает как сущностное следствие удерживания, и это говорит о том, что отношение ἀλήθεια κ λήθη Гомер постигает в ясной простоте и что природу ἀλήθεια он понимает из ее отношения к скрывающему влечению в забвение, характерному для λήθη. Перевод Иоганна Фосса («Бег хорошо отмечать, возвещая всё точно») не оставляет и следа от того, что на самом деле говорится в этом стихе. Ἀληθές превращается в «точное», a μέμνημαι — в простое «отмечание». Здесь мы имеем дело с явным привнесением «субъективности» и «субъективного поведения» в сущностную взаимосвязь ἀλήθεια и μέμνημαι.
Правда, мы поступили бы неправильно и в том случае, если бы, взяв этот отрывок за основу (в котором удерживание, являющееся для нас отношением, противоположным «забыванию», и несокрытость называются в их сущностной взаимосвязи как нечто само собой разумеющееся и «более естественное» для греков), стали утверждать, что несокрытость едина с незабвением, a ἀληθές, то есть несокрытое, как раз и является незабвенным, незабытым. Это, конечно, так, но только при том условии, если забывание мы уже мыслим с точки зрения ἀλήθεια, а в λήθη не торопимся привносить «забывание» в его позднейшем смысле как некое субъективно-душевное поведение, выражающееся в упущении чего-то, о чем раньше мы помнили.
«Несокрытое» вообще нельзя отождествлять с «незабытым», потому что «незабытое» может быть и чем-то ложным, неистинным, и тогда как таковое оно уже не обязательно является истинным, то есть не обязательно выступает как ἀληθές. Но не относится ли все-таки всё, что мы здесь говорим о «незабытом» (то есть, что оно может быть как истинным, так и ложным) и к несокрытому? Ведь так называемое «ложное» в своей ложности все-таки выступает как несокрытое и, следовательно, оно тоже есть истинное. В чем же состоит отличительная черта того несокрытого, которое мы называем «истинным» (das Wahre)? Ведь «несокрытым» является и то, что появляется как простая видимость.
Намечая этот ракурс, мы обращаем свой взор на такие связи и бездны, которые греческое мышление никак не могло миновать, но о которых мы едва ли догадываемся, потому что в неизбежные здесь вопросы внезапно привносим наше расхожее представление об истине как «правильности» и «надежности». Теперь нам ясно только одно: простой «несокрытостью», в которой может быть и «ложное», нельзя исчерпать сущностного содержания «алетейи» (ἀλήθεια) или, говоря осторожнее, теперь мы видим, что всё уже сказанное нами о ее сущности не позволяло мыслить ее исчерпывающим образом. И действительно, благодаря всем только что высказанным соображениям, то есть благодаря рассмотрению сущностной связи между ἀλήθεια и λήθη (где последняя выступает как сокрытие, влекущее в забвение) проявляется изначальный существенный момент в природе самой ἀλήθεια, который раньше мы не называли и который никак нельзя выразить словом «несокрытость» (во всяком случае до тех пор, пока эту «несокрытость» мы будем в поверхностном и неопределенном смысле воспринимать как устранение и отсутствие сокрытости).
Несокрытое есть то изначально спасенное (das Gerettete), которое в результате борения с увлекающим в забвение сокрытием было сохранено в раскрытии и тем самым спасено, то есть стало сокрытым в несокрытости и тем самым неисшедшим в забвение (das Unentgangene). Несокрытое — это не какое-то смутно присутствующее (das Anwesende), появившееся в результате того, что с него лишь спала пелена сокрытия. Несокрытое есть то не-отсутствующее (das Un-abwesende), над которым больше не властвует влекущее в забвение сокрытие. Само при-сутствование есть восхождение, то есть выхождение в несокрытость, совершаемое таким образом, что восшедшее и несокрытое, вобранные в несокрытость, спасаются ею и скрываются в ней. Теперь (через свою связь с λήθη) ἀληθές, то есть «несокрытое» полнее раскрывает свою сущность. Несокрытое есть вошедшее в покой (das Eingegangene) чистого самопроявления, чистого «вида». Несокрытое есть, таким образом, сокрытое. Когда мы прояснили природу той сущности, которая противоборствует сущности ἀλήθεια, то есть когда мы прояснили природу λήθη как влекущего в забвение со-крытия, только тогда прояснилась и сущность раскрытия.
Поначалу и это слово могло обозначать ровно столько, сколько обозначает «раз-утаивание», упразднение утаивания, то есть со-крытия. Однако рас-крытие подразумевает не только упразднение и устранение со-крытия. Рас-крытие одновременно надо мыслить примерно так, как мы мыслим раз-жигание и раз-ворачивание: раз-жигать = делать так, чтобы зажглось; раз-ворачивать значит показывать все многообразие того, что раскрывается в момент «ворочения», «ворота». Рас-крытие, во-первых, прежде всего рассматривается в ракурсе противостояния сокрытию, как распутывание противостоит запутыванию, однако раскрытие не приводит к одному только раскрытому как несокрытому. Напротив, рас-крытие одновременно выступает как рас-крытие, подобно тому как разгорание не упраздняет горения, а сильнее проявляет его сущность. Раскрытие одновременно совершается как бы для сокрытия несокрытого в несокрытость присутствия, то есть в бытие. Только в таком сокрытии несокрытое восходит как сущее. «Рас-крытие» теперь означает одновременное принесение в сокрытие, а именно приведение несокрытого на хранение в несокрытость. В своем полном значении слово «рас-крытие» («рас-скрытие»), которое на первых порах кажется непривычным и только после глубоких раздумий становится намеренно выбираемым и выбранным, столь же существенно содержит в себе и момент сокрытия, на котором мы сейчас и заостряем внимание, тогда как «несокрытость» говорит только об устранении сокрытости. Слово «рас-скрытие» двусмысленно в существенном и продуманном смысле, поскольку в нем выражается единство двоякого: во-первых, речь идет о рас-скрытии как упразднении сокрытия (сначала такого, которое влечет в забвение (λήθη), а потом такого, которое за-ставляет и ис-кажает (ψεΰδος); во-вторых, имеется в виду рас-скрытие, скрытие, то есть принятие и удержание в несокрытости.
«Рас-скрытие», постигнутое в своем более полном смысле, означает раз-утаивающее сокрытие уже-не-потаенного (das Enthehlte) в его внесении в несокрытость. Последняя сама предстает как скрывающая сущность, и это становится ясным только тогда, когда мы обращаемся к λήθη и видим, как она господствует, увлекая в забвение и отсылая в от-сутствование, в отпадение и выпадение.
Поэтому, размышляя о внутренней противоречивости, которая царствует в несокрытости, мы должны не просто научиться понимать, что помимо искажения и ложности, одним словом, помимо не-истины есть и другая сущность, противоречащая сущности истины как таковой, а именно λήθη. Гораздо важнее для нас оказалось то далеко ведущее соображение, что из этой сущности сама изначальная, внутренне противоречивая природа ἀλήθεια раскрывается в более исконном смысле. Ἀλήθεια против сокрытия, и в этом «против» она одновременно за сокрытие. Бытийствуя за сокрытие в несокрытое, ἀλήθεια тем самым против сокрытия.
Как таковые эти «за» и «против» — не какая-то «ссора», приводящая к тому, что их сущность как бы распадается в самой себе и превращается в нечто лишенное всякой сущности вообще: напротив, это то внутреннее борение, из которого и в котором ἀλήθεια в своей сущности едина и изначальна. В изначальной сущности внутренне противоречивое единство (Einigkeit) внутри-бытия есть не что иное, как глубинная сплоченность (Innigkeit).
Правда, об этой более изначальной сущности ἀλήθεια греки думали и говорили даже меньше, чем о сущности λήθη, потому что для них ἀλήθεια есть простое начало всего бытийствующего. Именно поэтому они не испытывают никакой потребности и не имеют никакого повода выводить свою поэзию, мышление и сказывание за пределы этого начала, а потом возвращать их в него. В этом начале для греков взошло достаточно из того, что было задано сказыванию их поэзии и мышления, их вы-ставлению в несокрытое и по-ставлению у него. Что касается нас, позднейших и прочих, то для того, чтобы хоть в какой-то мере в своем припоминающем мышлении мы смогли предугадать природу этого перво-начального (das Erst-Anfängliche) западноевропейской истории, нам надо специально прислушиваться к нему и следовать тем указаниям, которые мы получаем, переводя греческую ἀλήθεια как «несокрытость».
Анализируя третье из всех прежде названных указаний и осмысляя внутренне противоречивую сущность «несокрытости» шире границ противопоставления (истина/не-истина), мы видим, что и первые два указания приобретают более четкие очертания. Мысль о том, что «несокрытость» надо связывать с «сокрытостью» и «сокрытием», дает нам больше, чем, наверное, может дать одно только разложение этого слова на «не-сокрытость». С другой стороны, частица «не», употребляемая в «не-сокрытости», дала проявиться сущностному многообразию возможного «противостояния» и намекнула на внутреннюю противоречивость сущности истины. Если же теперь, после того как мы обратились к λήθη, в сущности раскрытия сокрытие проступает как его основная черта; если всё, что это сокрытие должно сокрыть и спасти, оно скрывает в несокрытости, тогда возникает вопрос о том, что же в таком случае представляет собой сама несокрытость, коль скоро она правит как нечто скрывающее и спасающее.
Поэтому теперь надо следовать четвертому указанию, которое «несокрытость», как перевод слова ἀλήθεια, дает нашему вдумчивому вниманию. О том, к чему нас обращает это четвертое и последнее указание и что мы должны учиться постигать лишь не торопясь, греки говорят еще меньше, чем об уже названных нами чертах ἀλήθεια; они почти не уделяют этому никакого особого внимания и почти никак специально его не обосновывают. Тем не менее это только теперь указуемое изначально покоится в самой еще сокрытой сущности несокрытости. Здесь надо постараться уяснить некоторые моменты, поначалу не связывая их с предыдущими указаниями. Правда, при такой попытке неизбежно усиливается впечатление, будто в греческую ἀλήθεια мы влагаем, втолковываем нечто такое, чего в ней на самом деле нет. Если судить по тем «таможенным барьерам», которые устанавливает историография, если размышлять в контексте всего того, что можно определить только в историографическом ключе, если, наконец, исходить из всеми любимых «фактов», тогда «фактически» все, что здесь сказано «об» ἀλήθεια, является примысливанием. Если же мы не станем навязывать подлинной истории каких-то историографических горизонтов и тем самым втискивать ее в них, если, напротив, позволим началу быть тем началом, каковым оно и является, тогда в силу вступит другой закон. Согласно этому закону мы не сможем ничего «втолковать» в это изначальное (das Anfängliche) или, лучше сказать, не сможем ничего «вытолковать» из него, если только станем внимать ему во всей строгости его исконной сущности, не подвергая его нашему произволу. Ведь размышление, которое именно таким образом стремится следовать бытийствующей сущности «истины», ни в коей мере не желает в самодовольном ученом усердии открывать только то, что уже подразумевалось, или выдумывать то, о чем прежде никто не думал. Такое размышление лишь готовит к пониманию того, что бытийствующая истина, которая оказывается «живее» всякой пресловутой «жизни», в ту или иную эпоху своего исторического существования исторически более судьбоносно затрагивает сущность человека, потому что эта сущность с давних пор и поныне при-суща нам независимо от того, думаем ли мы об этом и готовимся ли к этому.
То, что мы теперь, благодаря четвертому указанию, даваемому термином «несокрытость», пытаемся сделать предметом нашего рассмотрения, залегает еще глубже в сущности ἀλήθεια, чем ее прежде названная противосущность во всем ее многообразии. Поскольку то, что теперь открывается нашему взору, бытийствует в ἀλήθεια еще изначальнее, чем все прежде названное, она собою и через себя раскрывает его нам прежде всякого другого, и потому это указуемое нам как несокрытое оказывается еще ближе, чем то, самое близкое, что обычно прежде всего восходит перед нами, когда мы говорим о сущности ἀλήθεια. Поскольку указуемое нам теперь оказывается еще ближе, чем обычно принимаемое нами за «самое ближайшее», его в силу этого труднее увидеть. Поэтому, ревностно предавшись обычному смотрению, свойственному чувственному восприятию, мы не замечаем того, что относится к зримым вещам и всему обозреваемому пространству вокруг них и между ними и служит им: речь идет о самом близком, а именно о той ясности и свойственной ей прозрачности, сквозь которую спешит и должно спешить наше усердное смотрение на вещи. Постичь самое близкое тяжелее всего. В ходе нашего вы-хода к сущему, под-хода к нему и об-хождения с ним мы сразу и очень легко пере-ходим через это самое близкое. Поскольку самое близкое есть самое знакомое, оно не требует никакого особого усвоения. Мы вообще не думаем о нем. Оно остается меньше всего достойным мысли. Поэтому самое близкое появляется как самое ничтожное. Строго говоря, человек первым делом видит не самое близкое, а то, что за ним. Это второе в своей навязчивости и назойливости вытесняет самое близкое и его близость из сферы нашего опыта. Таков закон близости.
Закон близости основывается на законе начала. Начало (der Anfang) поначалу не дает взойти своей начальности (die Anfängnis), бытийно возвращающейся в собственную внутреннюю сплоченность. Начало поначалу предстает в уже начатом (das Angefangene), но и здесь оно также даже не появляется как начатое. Даже тогда, когда начатое появляется как таковое, начинающееся (das Anfangende) и тем более вся «сущность» начала еще остаются прикровенными. Поэтому в первый момент начало раскрывается в том, что изошло из него и в какой-то мере уже ушло от него. Первоначально начало оставляет позади себя близость своей начинающейся сущности и таким образом скрывает ее. Поэтому даже опыт изначального ни в коей мере не гарантирует возможности помыслить само начало в его сущности. Хотя первоначало является решающим для всего, оно все-таки не есть изначальное начало, то есть такое начало, которое одновременно проясняет себя и свою сущностную сферу и таким образом начинается. Начальность изначального начала совершается последней. Мы же не знаем ни вида, ни мига этого Последнего (das Zuletzt) истории, ни тем более его изначальной сущности.
Поэтому завершение истории первого начала может быть историческим признаком близости изначального начала, которое вовлекает в эту близость будущую историю. Поэтому вследствие упомянутого закона, в соответствии с которым начало начинается, то ближайшее, которое находится в сущности ἀλήθεια, греки с неизбежностью тоже не замечают. Это происходит не в результате какой-то невнимательности и не является следствием какого-то упущения или неспособности. Напротив, оставаясь верными первоначальному опыту еще ускользающего начала, греки упускают из виду то изначальное, которое характерно для начала. Но поскольку, с другой стороны, во всяком близком уже заранее бытийствует самое близкое и только оно (das Nächste), оно, это самое близкое сущности «алетейи», должно, пусть только мимоходом, то есть именно в смысле в какой-то мере увиденного, но не намеренно усмотренного, выражаться в слове.
Уже рассмотренный нами отрывок из «Илиады» (в котором Нестор говорит о возможном возвращении греков домой и о знаке, который дал Зевс при их отправлении в поход на Трою, метнув молнию вправо (см. «Илиада», В 348-350) позволил нам увидеть внутреннюю взаимосвязь между ψεΰδος (то есть за-ставлением как сокрытием и, следовательно, раскрытием) и φαίνειν, показыванием как возможностью появления. Несокрытое, «явствующее» есть то, что появляется из себя самого, что, появляясь, показывает себя и присутствует в самопоказании, то есть по-гречески есть. В результате опыт у греков раскрывает более исконную связь между несокрытым и появляющимся. В каком-то смысле и то, и другое есть одно и то же, и тем не менее это не так, поскольку в сущности появления скрывается двойственность, обуславливающая двоякость возможного решения. Появление основывается на чистом, высветленном явствовании, под которым мы понимаем восходящее сияние. Но то же самое появление есть самопоказание, открытое навстречу внятию и восприятию. То, что в своем показании обнаруживает себя самое, наше внимание ему может уловить как результат нашего же внимания, а бытийствующее в этом самопоказании появление, предстающее как чистое явствование и восхождение сияния, мы пропускаем как нечто мимолетное и, в конце концов, забываем о нем. В результате несокрытое все больше и больше постигается только в его отношении к человеку и в ракурсе человека, то есть в перспективе встречи. При этом поначалу не обязательно, чтобы человек (поскольку он подчеркнуто мыслит бытие в его отношении к себе и из себя самого) сразу же занимал позицию «субъекта», понимаемую в новоевропейском смысле, и истолковывал бытие как содержание своего представления.
Хотя к человеческому самобытию в качестве его не-сущности с необходимостью принадлежат самодовление и эгоизм, они ни в коей мере не совпадают с «я» человека, которое составляет сущность «субъективности», то есть того мятежного суверенитета, который характерен для человека Нового времени. В то же время природа упомянутого «я» не заключается в отъединяющемся обособлении от прочего сущего, том обособлении, которое называется «индивидуализмом». С метафизической точки зрения эта природа скорее выражается в том, что данное «я» противопоставляет себе все прочее сущее, делает его предметом, объектом. «Я» отличается тем, что постигает все сущее как то противопоставленное и противостоящее ему, что характерно для его пред-ставления, и таким образом продвигается прямо в целое (das Ganze) сущего, преподносит его себе как нечто такое, чем надо овладеть. Только в сущностной сфере субъективности исторически становится возможной эпоха космических открытий и планетарных завоеваний, потому что только субъективность размечает сущностные границы той или иной объективности и в конечном счете по собственному решению делает ее объективной. Сущность субъективности, а именно своеобразный эгоцентризм восприятия (perceptio) и представления (repraesentatio) столь существенно отличаются от «эгоизма» отдельного «я», что, согласно Канту, природа человеческой «яйности» (Ichheit) как раз и характеризуется господством сознания вообще как сущностной чертой утверждающегося на себе самом человечества. Самобытие человека в смысле субъективности и эгоцентризма раскрывается как ряд самых разнообразных форм, исторически выступающих как нация и народ. Народность и народное коренятся в сущности субъективности и эгоцентризма. Только после того как метафизика, то есть истина сущего в его целом, утвердилась на субъективности и эгоцентризме, национальное и народное обрели ту метафизическую основу, которая вообще делает их исторически действенными. Без Декарта, то есть без метафизического обоснования субъективности, нет Гердера, то есть обоснования народности того или иного народа. При этом неважно, можно ли просчитать историографические связи между ними, потому что такие связи всегда представляют собой лишь фасад, который в большинстве случаев только скрывает подлинно исторические взаимоотношения. Пока мы как следует не уясним, что субъективность в своем собственной сущности представляет собой новоевропейскую форму самобытия, мы будем ошибочно полагать, что, устранив господство индивидуума и индивидуализм, можно преодолеть субъективность. В отличие от «индивидуализма» XIX века, который отстаивает многообразие и «ценность» неповторимого, а в стаде, с характерным для него отсутствием различий, усматривает свою противосущность, Ницше видит, как проступают новые черты человечества, отличительная особенность которых — «тип».
В записи, относящейся к 1888 г. (Wille zur Macht, n. 819), мы читаем: «Вкус и тяга к нюансу (что, собственно, и свойственно современности), к тому, что не является общим, противоречит стремлению, которое радость и силу обретает в типическом...» (Wille zur Macht, n. 819). То, что Ницше понимает под «типом», представляет собой субъективность, из воли к власти направленную в безусловном (das Unbedingte) своего господства и упроченную как эта самая «воля». «Симптомом силы» этой субъективности, то есть признаком стремления к типу является «предпочтение, отдаваемое сомнительным и страшным вещам...» (Wille zur Macht, n. 852). Нельзя сказать, что здесь Ницше «проповедует» немцам всяческое отсутствие морали и какую-то особенную «философию»: будучи тем мыслителем, каковым он является, Ницше мыслит сущее в его бытии. Он мыслит то, что всемирно-исторически есть, мыслит то, что, поскольку оно уже есть, на самом деле только грядет[xv]. Перестав толковать ницшевскую метафизику в соответствии с буржуазными представлениями конца XIX в. и начав осмыслять ее в собственно историческом контексте, единственном, к которому она по-настоящему и принадлежит, то есть начав осмыслять ее из ее отношения к метафизике «объективного» идеализма и западноевропейской метафизики в целом, мы увидим, что ницшевское понятие «сверхчеловека» сущностно противостоит «абсолютному сознанию», характерному для метафизики Гегеля. И то, и другое мы постигаем только в том случае, если нам в достаточной мере удается понять сущность субъективности.
Сущностная форма субъективности заключает в себе способ самобытия человека, но не всякая самость с необходимостью является субъективностью[xvi]. Пока мы этого не понимаем, мы рискуем всюду, где первенство отдается самобытию человека, сразу же превратно истолковывать его как «субъективность» или даже как «субъективизм». Жертвой такого поверхностного историографического сопоставления и смешения стали софисты и сократики в их традиционном изложении. Поскольку философия Платона, а также метафизика Аристотеля уже прошли через разбирательство с софистами и сократиками, в начинающейся метафизике самобытие человека и его сущностная основа, рассматриваемая в этом контексте, получают своеобразное преимущество. Оно напрямую заявляет о себе в том, каким образом сущее как несокрыто появляющееся (das unverborgen Erscheinende) самым решительным образом связывается (и эта связь выступает как определяющая) с разумением (νοΰς) и с ψυχή, с сущностью «жизни». В конечном счете, дело заканчивается тезисом Аристотеля, согласно которому ἡ ψυχὴ τά ὄντα πώς ἐστι... («Душа [сущность «жизни»] некоторым образом есть сущее» (Περὶ Ψυχής, Γ 8, 431 b 21), то есть некоторым образом бытие сущего в качестве уразумеваемости и воспринятости уразумеваемого и воспринятого коренится в «душе». Это созвучно Канту, который в «Критике чистого разума» говорит о том, что условия возможности опыта одновременно являются условиями возможности предметов опыта. Однако на самом деле созвучие чисто внешнее. Тезис Аристотеля не означает, что бытие сущего покоится и состоит в представленности (Vorgestelltheit), которая возникает в представляющем «я» как субъекте сознания и его самодостоверности. Хотя бытие сущего как себя обнаруживающего и являющегося есть несокрытость, однако сущность этой несокрытости еще заключена в φύσις.
Сущее как таковое Аристотель называет τά φανερώτατα πάντων, то есть «самое явное» которое таково потому, что уже всюду показало себя прежде всего прочего, но он же делает и характерное уточнение: τά τῄ φύσει φανερώτατα πάντων (Μετ.α 993 b 11) (то есть оно таково потому, что явление определяется через φύσις, через из-себя-сюда-восхождение (Aus-sich-her-aufgehen).
В соответствии со сказанным в зарождающейся метафизике явление понимается как восхождение и выступление в несокрытое, но в то же время оно понимается и как самопоказание для внимающего уразумения и для «души». В этом кроется причина своеобразной неопределенности перехода, характеризующей становление начинающейся метафизики и превращающей ее в то, чем она является: во-первых, в отношении начала (der Anfang) последнего сияния первоначала, а во-вторых, в отношении продвижения первого этапа забвения начала и его сокрытия. Поскольку впоследствии мышление греков стали воспринимать только в контексте позднейших установок метафизики, то есть в свете платонизма и аристотелизма; поскольку вдобавок Платона и Аристотеля стали толковать в смысловой тональности Средневековья, или по-новоевропейски в духе, Лейбница и Гегеля, или даже в «неокантианском» ключе, нам, людям сегодняшним, почти невозможно совершить припоминающее вхождение в изначальную сущность явления, понятого как восхождение, то есть почти невозможно помыслить сущность φύσις. Поэтому остается сокрытой и сущностная взаимосвязь между φύσις и ʼλήθεια. Указание на эту взаимосвязь удивляет, но если φύσις означает восхождение, выступающее в несокрытое, и не имеет ничего общего с тем, что мы подразумевает под «ratio» и «природой»; если φύσις столь же исконно означает то, что означает ʼλήθεια, то почему бы в таком случае дидактическую поэму Парменида, в которой говорится об ʼλήθεια, не назвать «Περὶ φύσεως», то есть «О восхождении в несокрытое»?
До нас, сегодняшних, очень тяжело и медленно доходит, что, переводя φύσις словом «природа», мы только искажаем подлинную картину. Но даже если мы это и усвоим, нам предстоит пройти дальнейший путь преобразования нашего опыта и мышления, которое еще раз приблизит нас к первоначалу, дабы мы стали ближе к изначальному грядущего начала. Не усмотрев сущности φύσις, мы не увидим и того ближайшего (das Nächste) в ʼλήθεια, к осмыслению которого мы теперь и намереваемся приступить.
b) Четвертое указание: открытое (das Offene) как сущностное начало несокрытости.
Ссылка на «Бытие и время» и Софокла («Аякс», V, 646-647).
Время как являющее и скрывающее.
Гельдерлин. Время как «фактор» в Новое время.
Бытийствование открытости в несокрытости.
«Отождествление» открытости и свободы. Ἀλήθεια как открытое просвета
Наше разъяснение сущности ἀλήθεια мы завершим попыткой последовать четвертому указанию, которое нам дает перевод этого слова словом «несокрытость».
Мысленно забегая вперед, мы говорим: в сущности несокрытости царствует открытое. Поначалу мы подразумеваем под этим словом нечто незакрытое, то есть раскрытое. При таком понимании открытое предстает как следствие открывания и раскрытия. Для начала надо решить, не является ли подразумеваемое здесь открытое не просто следствием, а сущностной причиной раскрытия, каковая причина одна только и делает возможным несокрытость. Прежде всего необходимо понять, что, находясь в сущностной сфере ἀλήθεια, греки вообще постигали нечто такое, что заставляло их каким-то образом говорить об открытом. Мы, правда, нигде не находим у них понятия «открытого». Вместо этого в сущностной сфере ʼλήθεια и греческого мышления о бытии мы наталкиваемся на слова и имена, которые, пусть смутно, указывают на то, что здесь называется «открытым».
Подтверждением тому может служить простое речение из греческой поэзии. Мы выбрали его также потому, что оно еще раз таинственно простым способом заставляет нас думать о сущностном единстве основных слов греческого сказывания: тех слов, которые мы продумывали в ходе нашего размышления. Данное речение называет нам связь между сокрытием и раскрытием, явлением и восхождением, прямо указывая на то, о чем мы теперь раздумываем. Но тут же оно говорит и о том, что послужило предисловием для сказывания о сущности бытия.
В этом речении говорится о «времени». В «Бытии и времени» время постигается и именуется как пред-словие для слова бытия. Итак, греческое речение о времени находится в трагедии Софокла «Аякс» (V, 646—647). Вот оно:
ἄπανθʼ ὁ μακρὸς κἀναρἰθμητος χρόνος φύει τʼ ἄδηλα καὶ φανέντα κρύπτεται. «Время, обширное и не улавливаемое исчислением, позволяет взойти всему неявному, но [снова] скрывает явленное в себе самом».
Рассмотрим это речение от его конца. В конце, как видим, стоит глагол κρύπτεται, который означает «возвращать в себя», «забирать назад, утаивая, и скрывать в себе». Именно так скрывает «время», χρόνος. Изначально греки понимают «время» только как «правильное» или «неправильное», подходящее или неподходящее. Смысл таков, что каждое сущее имеет свое время. Тогда в каждом случае «время» есть «время, в котором» совершается то или другое, то есть оно представляет собой «момент», причем такой, в котором имеется в виду не некое «точечное» «теперь», а «точка» в смысле местонахождения, места, которому, будучи характерным именно для своего времени, принадлежит то или иное являющееся в своем появлении. Здесь «время» — это не «ряд» и не «последовательность» одинаковых, однозначных точечных «теперь». Напротив, время есть нечто такое, что само на свой лад имеет у себя сущее, отпускает его и возвращает.
По существу, «время», χρόνος, понимаемое по-гречески, соответствует тому, что у тех же греков обозначается словом τόπος и что мы неправильно переводим как «пространство». Τόπος — это место, причем такое, которому что-то принадлежит, например, огню, пламени, воздуху место вверху, воде и земле — внизу. Подобно тому как τόπος «решает вопрос» о бытийной принадлежности ему того или иного сущего, χρόνος «решает вопрос» о принадлежности того или иного появления и исчезновения к его проникнутому историей «тогда» и «когда». Поэтому о времени говорится, что оно μακρός — «обширное» в смысле неопределимой для человека, каждый раз помечаемой соответствующим временем, возможности отпускать сущее в явление или удерживать его. Поскольку сущность времени выражается в таком отпущении и возвращении, число в сравнении с ним не может ничего. То, каким образом всякому сущему его время определяет появление и исчезновение, принципиально не поддается никакому исчислению.
Тот факт, что Хронос, греческий бог, превосходящий возрастом Зевса, самого главного из всех олимпийских богов, и являющийся его «древним отцом», называется именно Хроносом, мы в полной мере осмыслим только тогда, когда как следует усвоим, что, во-первых, природа греческого божества вообще заключается во взирающем в сущее появлении и, во-вторых, «время» есть нечто являющее и скрывающее. В сокровенной сущности древнего бога по имени «Хронос» покоятся «древние радости», «из» которых «произрастает всякая сила»[xvii]. Изначальная сущность времени принципиально чужда числу, исчислению и всяким «умениям»: оно есть ἀναρίθμητος.
Надо, однако, сказать, что в том же эллинстве сущность времени понимается как раз в контексте «числа» (как, например, в «Физике» Аристотеля), и здесь есть о чем подумать, прежде всего потому, что аристотелевское сущностное определение χρόνοςʼа до сих пор главенствует в западноевропейском понимании сущности времени. В настоящее «время» не только в математических формулах новоевропейской физики, но и вообще во всем поведении человека оно, то есть время, понимается как некий «фактор», то есть как «работник», который «работает» или «против» человека, или «для» него, а точнее «против» или «в пользу» исчисления, с помощью которого строящий планы человек овладевает сущим, чтобы надежно утвердить себя в нем. В новоевропейском сознании время — нечто такое, что человек вносит в сферу своего исчисления как некую очерченную определенными рамками пустоту, в которой протекают сменяющие друг друга события. Повсюду, а не в одной только в физике, время выступает как «параметр», то есть как координата, вдоль которой (παρά) совершается всякая мера (μέτρον) и само исчисление. Человек использует и расходует время как некий «фактор», и вследствие такой потребляющей и пожирающей установки возникает состояние, в котором человек, несмотря на всяческую экономию времени, имеет его все меньше и меньше, в результате чего даже при самых незначительных технических рабочих операциях его сбережение, экономия становится необходимой.
Для современного человека, предстающего как субъект, «мир» превратился в единственный однообразный «объект», и время тоже становится неким объектом потребления. Современный человек потому «имеет» времени все меньше и меньше, что он сам с самого начала овладел им как чем-то только подсчитываемым, и, одержимый им, стал по отношению к нему в позицию некоего распорядителя, чьим действиям время якобы подвластно. Если же наша мысль движется в изначально греческой смысловой тональности, тогда время, которое выступает как время, чем-то наделяющее, как время уделенное и нечто сообщающее нам, берет в свое распоряжение человека и все сущее и всюду увязывает и устраивает появление и исчезновение этого сущего. Время раскрывает и скрывает.
Однако вновь скрывать в самом себе (κρύπτεσθαι) время может только то, что уже появилось, то есть явленное (φανέντα). Здесь присутствующее, сущее, которое в результате «порыва» времени скрывается в отсутствие, понимается в ракурсе появления. Но появившееся и появляющееся есть то, что оно есть, только в той мере, в какой оно выступает в несокрытое и восходит. Поэтому должно бытийствовать нечто такое, что позволяет появляющемуся взойти: имеется в виду земля (ἡ γή), о которой говорится, что она φύει, то есть позволяет появиться, выступить (φύσις, φύειν, см. выше λήθη — миф). Нередко φύειν переводят (и переводят правильно) как «произрастать», но при этом забывают мыслить «произрастание» и «становление» по-гречески, то есть как исхождение корня и ростка, находящихся во мраке земли, из сокрытости на свет дня. Мы также говорим, хотя, по большей части, только в речевых оборотах: «время покажет»; «каждому овощу свое время» (для его восхождения). Θύειν, характерное для φύσις, возможность восхождения и само восхождение позволяют восходящему появиться в несокрытом.
Правда, надо отметить, что Софокл, говоря о времени, которое скрывает (κρύπτεται) и позволят взойти (φύει), не употребляет слова ἀλήθεια (несокрытость). Кроме того, он не говорит о времени в том смысле, что оно позволяет взойти сокрытому (φύει τὰ λαθόντα): он говорит, что время позволяет появиться тому, что предназначено для появления, но еще не предстает как δήλον, то есть как нечто явное; время φύει τὰ ἄδηλα, то есть позволяет появиться неявному, ἄ-δηλον. В соответствии с не-явным как сокрытым несокрытое предстает как явное, то есть как пришедшее в открытое и явленное в открытости. В несокрытости бытийствует открытость. Открытое (das Offene) есть то ближайшее (das Nächste), что мы тоже имеем в виду, хотя и не прямо, когда размышляем о природе несокрытости; то ближайшее, что мы не можем мыслить как таковое, не говоря уже о том, чтобы заранее усмотреть его в его собственной сущности, то есть так, чтобы из самого бытийствующего открытого суметь вызвать и вывести весь опыт переживания сущего. Мы уже знаем: несокрытое и раскрывающее (ἀληθές) стоит в особом отношении к ἔπος, μΰθος, λόγος, то есть к слову. Глубинное, существенное отношение к φαινόμενον, к тому, что показывает себя в несокрытости, есть сказание и сказывание. Поэтому раскрывающее сказывание, которое совершается в вы-сказывании, еще для Аристотеля есть не что иное, как ἀποφαίνεσθαι, то есть «выявление». Однако нередко Аристотель вслед за Платоном и теми, кто был до него, вместо ἀποφαίνεσθαι употребляет глагол δηλοΰν, «привносить в открытое» (см. в этой связи «Бытие и время», § 7, который надо читать в соотнесении с § 44). В сказании о несокрытости (ἀλήθεια), ο φύσις (восхождении в несокрытое), о φαίνεσθαι (появлении и возможности появления), о κρύπτεσθαι (сокрытии), а также о λανθάνειν (о бытии-сокрытым) почти всегда, хотя и мимоходом, упоминается τὸ δήλον, то есть стоящее-в-открытое и, таким образом, само открытое (das Offene).
Итак, сущность несокрытости отсылает нас к открытому и открытости (die Offenheit). Но что это такое? Здесь греческое сказывание молчит, и когда возникает необходимость осмыслить сущность того открытого, которое царит в ἀλήθεια, нам не на что опереться, не у кого попросить помощи. Для расхожего мнения попытка такого осмысления становится особенно странной, прежде всего потому, что по ходу дела становится ясно: открытое ни в коей мере не является только результатом или следствием раскрытия — напротив, оно есть не что иное как основа и сущностное начало несокрытости. Ведь раскрывать, то есть давать возможность войти в открытое, может лишь то, что заранее предоставляет это открытое и таким образом является раскрывающимся в себе самом и, следовательно, имеет открытую сущность, необходимую для такого совершения. То есть речь идет о том, что само по себе уже «свободно». Итак, еще прикровенная сущность открытого как изначально себя-открывающего есть свобода.
Отождествляя открытость со свободой, мы сталкиваемся с чем-то знакомым и таким образом природа открытого становится нам как будто понятной. Однако на самом деле это лишь видимость, причем многоликая, поскольку «отождествление» открытости и свободы утверждает саму еще темную открытость в сущности свободы, которая в своем происхождении также остается темной. В любой метафизике сущность «свободы» понимается в сущностном соотнесении с «волей» и свободой воли в контексте человеческого поведения как специфического проявления душевных способностей. Однако теперь нам надо помыслить сущность свободы в ее сущностном единстве с ἀλήθεια, мыслимой в ее изначальном значении: помыслить, учитывая, что таким образом проясняется сущность уже упомянутого нами открытого (das Offene). Предприняв это, мы увидим, что упомянутое открытое есть не что иное, как то свободное (das Freie), в которое человек, в соответствии со своей сущностью, сначала должен прийти, дабы тем самым позволить сущему как таковому всюду быть в открытом.
Свободное (das Freie) — это порука, скрывающее пристанище для бытия сущего. Как свободное (das Freie) открытое (das Offene) есть скрывающее и сокрытие бытия, хотя открытое, свободное и просторное (das Weite) обычно воспринимают как повод для расхождения, рассеяния и рассыпания. Открытое и его расширение в шири беспредельного и безмерного — это, скорее, та сфера, в которой нет никаких опор и любая о-становка уносится в лишенное стана. Открытое не дает никакого укрытия и сокрытости. Открытое, скорее, представляет собой некое пространство того, что еще не определено и не решено, и потому оно — повод для блуждания и заблуждения. Поэтому в отношении открытого надо ответить на два вопроса. Во-первых, может ли это открытое (и если да, то каким образом), возникая из первоначальной свободы, быть изначальной сущностью несокрытости? Во-вторых, каким образом открытое может скрывать?
Нельзя отрицать, что изначальная сущность истины, ἀλήθεια, отсылает нас в существо открытого и открытости. Хотя греки не продумывают открытое именно как сущность «алетейи» и не именуют его таковой сущностью, в одном отношении они постоянно его постигают, а именно постигают открытое в сущностной форме проясненного и того прояснения, которое предстает в блеске света, приносящего ясность. Мимоходом, когда надо было охарактеризовать греческие δαίμονες и θεάοντες как взирающих и появляющихся в свете, мы уже называли открытое проясненным и намекали на связь между просветом и светом. Свет есть полагающее меру свечение, сияние и просияние. «Свет» прежде всего сияет как свет солнца. Из Платоновой «притчи о пещере» можно легко уловить связь между солнцем, светом, несокрытостью и раз-утаиванием, с одной стороны, и тьмой, тенями, сокрытостью, утаиванием и пещерой, с другой.
Мысля сущность ἀλήθεια как открытое, характерное для просвета и света, мы как будто получаем завершающее разъяснение по-гречески понимаемой сущности истины. Кажется, что остается сделать лишь несколько шагов, и мы сумеем «разъяснить» эту сущность так, что наше «разъяснение» вполне удовлетворит расхожие притязания, характерные для новоевропейского мышления.
с) Свет и видение. «Естественное» разъяснение света: греки как «люди глаза»
и раскрывающийся вид. Видящее внятие.
Ἀλήθεια: событие в вечерней области, скрывающей утро. Θεάν-ὁράν и теория
Только свет, понятый как ясность, предоставляет возможность вида и тем самым — возможность как встречающего, так и уловляющего «зрения», видения. Усмотрение есть акт смотрения. Смотрение же есть способность, свойственная глазу. Здесь мы как будто наталкиваемся на ту «точку», отталкиваясь от которой вообще можно разъяснить, почему греки понимают истину как ἀλήθεια, или теперь можно сказать по-другому: почему они понимают истину как проясненное и открытое. Принято считать, что греки были «людьми глаза». Они схватывали «мир» прежде всего «глазами» и потому «естественным образом» в первую очередь обращали внимание на видение и открывающийся вид. Такая картина заставляла их размышлять о свете и ясности. От прояснения, ясности и прозрачности (διαφανές) света остается один шаг до просвета (die Lichtung) и проясненного (das Gelichtete), то есть всего один шаг как раз до открытого (das Offene) и тем самым до несокрытого как сущностного. Если мы решим, что греки были «людьми глаза», если поразмыслим о несокрытости как открытости и просвете, тогда сущностный приоритет, отдаваемый ἀλήθεια, сразу во всех отношениях станет «понятным». Обращая внимание на то, что основной особенностью ἀλήθεια является открытость, мы становимся на путь «самого естественного объяснения» этого слова.
Итак, принято считать, что существо истины в греческом ее понимании, а именно несокрытое, открытое, проясненное, светоносное, объясняется тем фактом, что греки были «людьми глаза». Таким «разъяснением» мы могли бы и завершить обсуждение по-гречески понимаемого существа ἀλήθεια. Тем не менее, чтобы хоть в какой-то мере аккуратно завершить это обсуждение, необходимо устранить одну смущающую деталь. Говорят, что греки были «людьми глаза», и поэтому в основе их мироистолкования лежали созерцание, зрение и свет. Но почему они были «людьми глаза»? Разве не все люди таковы? Конечно, все, потому что у всех есть глаза и все смотрят. Но данная отличительная особенность греков должна все-таки показать, что у них «глаз» играл особенную роль. Почему? — снова спрашиваем мы. Потому, дескать, что там, в Греции, свет по-особому впечатляет. Но в таком случае не глаз как таковой, а именно свет является чем-то господствующим и определяющим, что и наделяет прояснение первенствующим значением. Кроме того, у египтян и в какой-то мере у римлян сила света не меньше, чем у греков, но здесь мы не находим ничего, что говорило бы о существе истины в смысле ἀλήθεια. Нам могли бы возразить, сказав, что именно это и доказывает: греки в особой мере были «людьми глаза». Это, мол, факт, и тут ничего не поделаешь. Он есть нечто «последнее», как бы «субстанция» этого народа. Мы вовсе не собираемся отрицать тот «факт», что греки были «людьми глаза» и что в их мире свет и возможность видеть играли главную роль. Вопрос лишь в том (и его надо задать еще раз, несмотря на все «факты»), «разъясняется» ли хоть в какой-то мере существо ἀλήθεια ссылкой на эти факты и можно ли вообще ее «разъяснить» какими-то «фактами» и даже их обилием. Мы идем дальше и спрашиваем, связывает ли нас «разъяснение» чего-то сущностного с самой его сущностью и может ли такое «разъяснение» хоть когда-нибудь сделать это? Тем самым мы подходим к вопросу о том, каковы вид и смысл предпринятого здесь осмысления сущности ἀλήθεια.
Как мысль о том, что греки были «людьми глаза», способствует разъяснению сущности истины как несокрытости, открытости и просвета? Совершенно никак, потому что она ничего нам не говорит. Этот факт ничего не означает, потому что фактическое функционирование глаза как такового не дает и не может дать никакого объяснения природы отношения человека к сущему. Что такое «глаз» без уже имеющейся способности видеть? Мы видим не потому, что у нас есть глаза, но у нас они есть потому, что мы можем «видеть». Но что такое «видеть»? Под этим мы в самом широком смысле понимаем — и на этом и утверждается также всякая физическая, физиологическая и эстетическая «оптика» — непосредственную возможность встречи сущего, вещей, всего живого и человека в свете. Но разве мог бы что-нибудь сделать весь этот сияющий свет, разве мог бы что-нибудь сделать весь этот столь искусный и подвижный зрительный аппарат, если бы прежде, сквозь органы чувств и благодаря посредничеству света, сама способность видения не заметила сущего? Подобно тому как без этой способности сам глаз — ничто, сама эта способность, в свою очередь, тоже оборачивается ничем, если она заранее не дает о себе знать в отношении человека к усматриваемому им сущему. Но разве может сущее появиться перед человеком, если человек сам уже как-то не относится к сущему как сущему? И далее: могло ли бы совершаться это отношение человека к сущему как таковому, если бы человек заранее не находился в состоянии отнесенности к бытию? Если бы человек уже каким-то образом не усматривал бытия, он даже не мог бы помыслить ничто, не говоря уже о том, чтобы как-то постичь сущее. Но как бы он мог стоять в этой отнесенности к бытию, если бы прежде само бытие не обратилось к нему и не призвало к себе его существо? И что такое эта отнесенность бытия к человеческому существу, как не просвет (die Lichtung) и открытое (das Offene), которое вообще прояснило себя для несокрытого? Если бы такой просвет не бытийствовал как открытое самого бытия, человеческий глаз никогда не стал бы и не был бы тем, что он есть, то есть способом усмотрения того «вида», в котором перед ним предстает и раскрывается сущее в момент этого усмотрения. Поскольку изначально сущность истины есть «несокрытость» (ἀ-λήθεια), поскольку ἀλήθεια в сокрытом уже есть открытое и себя-проясняющее, просвет и его про-свечение вообще появляются как высветление ясности и ее прозрачности. Только потому, что сущность бытия есть ἀλήθεια, первенствующее значение получает светлое света. Поэтому восхождение и вступление в открытое обретают характер сияющего появления. Поэтому внятие восходящего и несокрытого есть внятие светозарного, то есть смотрение и видение. Только потому, что именно таково достоинство видения, «глаз» получает первенствующее значение. Человеческий глаз может «видеть» (и становиться символом отношения человека к несокрытому вообще) не потому, что он «преисполнен солнца», а потому, что солнце в своем сиянии само как бы являет собой просвет и ему присуще то, что присуще ἀλήθεια. Поскольку сущность истины и бытия есть ἀλήθεια, открытое, греки, говоря о сущностном отношении человека к сущему, то есть говоря о душе (ψυχή), могли характеризовать это отношение упоминанием о «глазе», а также рассуждать об «оке души» (ὄμμα τής ψυχής).
Но греки же говорят и о беседе «души» с самой собой (λόγος), подчеркивая, что сущность человека выражается в обладании словом (λόγον ἔχειν). Но если, таким образом, сущность «души» определяется через λόγος, причем определяется в той же существенной мере, в какой она определяется через видящее внятие, и если это последнее бытийствует в том светоносном прояснении, которым характеризуется ἀλήθεια, тогда λέγειν, свойственное человеческой душе, также должно утверждаться через λόγος, который по своей сути есть не что иное, как ἀλήθεια[xviii].
Изначально сущность истины есть ἀλήθεια, и не потому, что греки были «людьми глаза», но, напротив, они могли быть таковыми лишь потому, что ἀλήθεια определяет их отношение к бытию. Это и только это — а именно то, что сущность истины начинается как ἀλήθεια, причем так, что тут же скрывает себя — и составляет событие западноевропейской истории.
В соответствии с этим сущностным началом Запад (Abendland) — это еще не определенная и не очерченная область земли, на которую нисходит вечер (der Abend), тот вечер, который как таковой сущностно начинается из начала и потому скрывает в себе утро этой области. Поскольку сущность истины господствует как ἀλήθεια, открытое (das Offene) и проясненное (das Gelichtete) делают появляющееся в них (das Erscheinende) сущностной формой того «вида», который взирает в саму ясность света. В соответствии с этим появляющимся видением раскрывающее внятие и уловление сущего, то есть познание, постигается как смотрение и усмотрение, у-видение.
Вид бытия, взирающий в сущее, по-гречески называется θέα. Улавливающее видение в смысле смотрения называется ὁράω. У-видеть встречный вид (θεάν—ὁράν) называется θεοράω (θεωρεΐν, θεωρία). Таким образом, слово «теория», попросту говоря, означает воспринимающее отношение человека к бытию, причем не человек устанавливает это отношение, а только само бытие ставит, помещает человеческое существо в это отношение.
Правда, когда позднейшие поколения и мы, сегодняшние, употребляем слова «теория» и «теоретический», все изначальное оказывается позабытым. «Теоретическое» предстает как устроение представляющего субъекта. «Теоретическое» — это «только теоретическое» и не более того. Для того чтобы себя «обосновать», ему надо подтвердить себя «на практике». Без такого подтверждения ему отказывают в праве быть связанным с «действительностью». Даже там, где за теоретическим в определенных рамках еще признается его собственное значение, люди рассчитывают на то, что однажды его можно будет использовать «на практике», и только мысль о том, что когда-нибудь оно неожиданно окажется практически ценным, еще как-то оправдывает его существование. Практическое, то есть конкретные успехи и достижения, становятся мерилом и оправданием теоретического. Уже сорок лет назад американцы выдвинули такое учение, как «прагматизм». Эта «философия» не искупит и не спасет Запад, а что касается греков, которые одни являются хранителями начала западного мира, то они в уже упомянутой θεωρία напрямую постигли сущностную связь с θεάοντες, θεΐον и δαιμόνιον. Поэтому для того чтобы оправдать свою θεωρία, отведя от нее подозрения в одном только «теоретическом», которое мы низводим до уровня «одного лишь абстрактного» и затем в страхе отшатываемся от него, им не надо было поверять «теорию» практической «ценностью». Глядя на такое отчуждение «теоретического» (которое стало «абстрактным») от исконной θέα, то есть от «вида» бытия, стоит ли удивляться появлению «атеизма», который заявляет о себе не только у «вольнодумцев» и «безбожников»?
Тот факт, что у греков основной опыт постижения бытия предстает как θεωρία, свидетельствует не столько о приоритете смотрения и видения, сколько об изначальном господстве ἀλήθεια, в которой бытийствует нечто наподобие просвета, проясненного (das Gelichtete) и открытого (das Offene). Поскольку мы следуем такому указанию сущности несокрытости и размышляем над открытым, наше размышление над сущностью ἀλήθεια движется, конечно, не к его завершению, но прежде всего к его началу.
d) Открытое в начале размышления над словом ἀλήθεια.
Существенное мышление: прыжок в бытие.
Несокрытое сущее в сокрытости без-основного (das Boden-lose), свойственного открытому (свободному) бытия.
Сокрытие решения о наделении несокрытостью в скрывающем открытом
по отношению к человеку.
Полномочие усматривать открытое, получаемое через наделение человека бытием: историческое начало. Отчуждение человека от открытого
Начало требует от нас, история которых отдалилась от начала, приступить к тому размышлению, в котором осмысляется сущность «открытого». Когда мы говорим об «открытом» и употребляем слово «открытость», складывается впечатление, что речь идет о чем-то знакомом и понятном. Тем не менее все растворяется в неопределенности. Единственный положительный момент, наверное, заключается в том, что теперь мы серьезно относимся к слову «открытое» и осмысляем его только в том сущностном контексте, к которому нас приблизило наше прежнее размышление о сущности ἀλήθεια. Об «открытом» мы теперь говорим только в нерасторжимом сущностном единстве с ἀλήθεια и ее сущностью, понимаемой в изначальном смысле.
Итак, в соответствии со сказанным открытое есть то светлое, которое дает о себе знать в самопрояснении света. Мы называем его «свободным» (das Freie), а его сущность — свободой. Здесь это слово имеет свой изначальный смысл, чуждый метафизическому мышлению. Естественным образом возникает стремление разъяснить сущность свободы — каковая сущность здесь мыслится как сущность открытого — в унаследованных пределах различных понятий свободы. Вообще возникает искушение постепенно приблизиться к сущности этого «открытого», отталкиваясь от привычных представлений.
Путь, который открыт для нас, мы называем свободным. По нему можно пройти и проехать. То, через что мы проходим и что позволяет нам пройти через себя, предстает перед нами как некое пространство. Промеряемое нами в нашем прохождении мы знаем как пространственное (das Raumhafte) определенных пространств (die Räumen), как их протяженную сущность, которой мы наделяем и «время» (die Zeit), когда говорим о каком-нибудь «промежутке времени» (der Zeitraum). Так мы представляем то, что, по всей вероятности, сразу появляется перед нами, когда мы говорим об «открытом»: мы представляем незакрытое (das Unverschlossene) и незанятое (das Unbesetzte), свойственное той протяженности, которая готова принять и расположить в себе предметы.
Однако открытое как ἀλήθεια не подразумевает пространства, не означает «времени» в его обычном понимании, равно как не подразумевает их единства, то есть пространства-времени, потому что все это уже получает свою открытость из того открытого, которое господствует в сущности раскрытия. Равным образом, всюду, где есть нечто «свободное от чего-либо» (в смысле несвязанного), а также «свободное для чего-либо» (в смысле готовности к чему-то), уже бытийствует само свободное (das Freie), бытийствующее из того свободного, которое освобождает и пространство-время, делая его «открытым» в смысле возможности промериваться в протяжении и расширении. «Свобода-от» и «свобода-для» уже требуют просвета, в котором отрешение и приобщение есть так, как они есть, то есть требуют того более изначального свободного, которое никак не может утверждаться на свободе человеческого поведения.
Таким образом, к открытому как сущности ἀλήθεια мы никогда не сможем прийти, если решим, что до него можно добраться постепенным и постоянным расширением открытого, понятого как «протяженное» или «свободное» (в расхожем понимании «свободного»): расширением до тех огромных пределов, которые «охватывают» всё. Строго говоря, сущность открытого становится ясной лишь такому мышлению, которое стремится помыслить само бытие, причем помыслить так, как оно подсказано нам в западноевропейской истории как наша судьба: как то, о чем надо помыслить от имени и сущности ἀλήθεια. Каждый человек, существующий в истории, знает бытие непосредственно, не постигая его, правда, как таковое. Насколько непреложно непосредственное знание бытия, настолько редко удается помыслить его как таковое. Дело не в том, что такое мышление оказывается очень трудным и чтобы приступить к нему, необходимо принятие каких-то особых мер. Если здесь и можно говорить о затруднительности, то она заключается как раз в том, что помыслить бытие проще простого, но именно это и дается нам тяжелее всего.
Для того чтобы помыслить бытие, не надо обладать торжествующе изощренной ученостью, равно как нет никакой нужды погружаться в какие-то особые, исключительные состояния, похожие на мистические погружения, преизбыточествующие некоей глубиной. Необходимо просто пробудиться вблизи любого неприметного сущего: пробудиться и внезапно увидеть, что сущее есть.
Пробуждение для такого «есть» и, прежде всего, бодрствование по отношению к этому «есть» какого-либо сущего, а также бдение над его просветом — всё это и составляет существенное мышление. «Есть» какого-либо сущего, то есть само бытие, всякий раз обнаруживается, если обнаруживается, лишь «внезапно» (по-гречески: ἐξαίφνης, то есть ἐξαφανής — так, как будто нечто из области неявляющегося (das Nichterscheinende) внезапно вторгается в само средоточие являющегося). На это сущностно неопосредствованное и никоим образом не опосредуемое вторжение бытия в одновременно появляющееся сущее, которое появляется именно так, как оно появляется, человек отвечает тем, что внезапно перестает обращаться к сущему, но мыслит само бытие. Для того чтобы помыслить бытие, всякий раз необходимо совершить прыжок, отрывающий нас от привычной основы, на которой для нас поначалу утверждается то или иное сущее, и бросающий в то без-основное, которое проясняется как свободное, именуемое нами тогда, когда мы думаем о сущем только то, что оно есть, и ничего более.
Это настоящее мышление совершает скачок, оно «скачкообразно», потому что не знает никаких мостов, ступеней и лестниц, характерных для разъяснения, которое выводит из сущего только то или иное сущее, потому что остается на «почве фактов». Такая почва зыбка. Она никогда ничего не держит. Ведь всякое сущее, на котором мы пытаемся утвердиться как на чем-то единственном, может что-то нести на себе только вследствие забвения бытия, в котором все-таки бытийствует сущее. Бытие же — это не почва, не основа, а нечто без-основное. Оно называется так, потому что изначально остается отрешенным от «почвы» и «основы» и не нуждается в них. Бытие, которое выступает как «есть» всякого сущего, никогда не укореняется в сущем, в том смысле, что оно могло бы возникать из сущего и утверждаться на нем как на своей основе. Укорененным является только сущее в отношении к сущему же. Никогда ни в чем не укореняющееся бытие есть нечто без-основное, которое, однако, с точки зрения одного только сущего воспринимается как некое отсутствие и появляется как нечто такое, куда мы, стремящиеся за сущим, постоянно погружаемся. Мы в самом деле ввергаемся в без-основное, мы не находим никакой основы до тех пор, пока эта основа ведома «нам» только в облике сущего и пока мы ищем именно такой основы, то есть не выступаем за пределы привычного ландшафта, характеризующегося забвением бытия, и не совершаем прыжок в бытие. Для того чтобы сделать это, не надо ничего пространных разъяснений и никаких особых условий.
Дело в том, что всегда и всюду в самой непосредственной близости самого неприметного сущего уже бытийствует открытое возможности намеренно помыслить «есть» того или иного сущего как то свободное (das Freie), в просвете которого появляется несокрытое сущее. Открытое, в которое всякое сущее освобождено как в его свободное, есть само бытие. Всякое несокрытое как таковое сокрыто в открытом бытия, то есть в без-основном.
Без-основное, исконно отрешенное от всякой основы с характерной для нее зыбкостью, есть изначально скрывающее, но скрывающее не в смысле той «сокрытости», которую человек разыскивает где-то внутри сущего и сообразовывается с ним. Сокровенное открытого не дает прибежища, в котором человек мог бы избавиться от своей сущности. Открытое как таковое скрывает сущностное средоточие человека, поскольку человек и только человек есть то сущее, которому бытие проясняет себя. Бытие как открытое (das Offene) таит в себе всякий вид несокрытости сущего. Совершая такое утаивание, сокровенное открытое (bergsame Offene) всякий раз скрывает и то, в какой изначальности бытие наделяет человека несокрытостью, то есть истиной сущего в целом. В соответствующем виде такого наделения утаено и сокрыто то, каким образом в тот или иной момент истории исторический человек принадлежит бытию, то есть как он через такое наделение получает полномочный удел отдавать должное бытию и быть тем единственным сущим, которое, находясь в средоточии всего сущего, усматривает открытое. Решение о таком полномочии выносится редко. Каждый раз оно принимается там и тогда, где и когда сущность истины, открытость открытого, определяется изначально. Тогда совершается начало истории. Правда, исторический человек, поскольку он есть, постоянно наделяется бытием. Человек, и только он, непрестанно смотрит в открытое в смысле свободного, которое каждый раз освобождает для него самого «есть» каждого сущего и из этого освобождения взирает на человека в его охранении открытого. Тем не менее несмотря на то, что только человек постоянно смотрит в открытое, то есть застает сущее в том свободном, которое отличает бытие, и затрагивает его лишь для того, чтобы, в свою очередь, быть застигнутым им, нельзя сказать, что тем самым он уже имеет полномочие намеренно приносить само бытие в то, что является его исконным, а именно в открытое (свободное), то есть уполномочен поэтически творить, мыслить и сказывать его. Дело в том, что поскольку только в открытом бытия может появляться и появляется несокрытое сущего, человек поначалу — и затем постоянным образом, хотя и неожиданно для себя — обращается только к сущему. Он забывает бытие и в таком забвении учится только одному: непризнанию бытия и отчуждению от открытого.
е) Открытое в форме беспрепятственного продвижения сущего.
Открытое: свободное (das Freie) просвета.
«Открытое» «твари» в Восьмой Дуинской элегии Рильке. Шопенгауэр и Ницше.
Исключение животного из борьбы несокрытости с сокрытостью.
Воз-бужденное живого (das Lebendige)
Бытие, от наделения которым человек не может ускользнуть даже тогда, когда полностью забывает о нем, тем не менее, вследствие отчуждения от ἀλήθεια, расплывается перед ним в неподдающееся определению целое сущего. В итоге бытие без сохранения каких-либо отличий отождествляется с сущим или упраздняется как некое пустое понятие. Это приводит к тому, что различие, лежащее в основе всяких различий, и начало всякого различения, то есть различие бытия и сущего полностью упраздняется и при содействии человека из ничего не предугадывающего невнимания к тому, что, собственно, следует мыслить, превращается в нечто просто не принимаемое в расчет — не принимаемое в зловещем непродумывании, проистекающем из забвения. Тем не менее бытие остается даже в едва помысленном способе существования сущего в целом, проясняющегося через истолкование той сферы внутри соответствующего сущего, которой на данный момент отдается предпочтение. «Бытие» становится простым словом, скрывающим то, что ускользнуло и замкнулось, но где, тем не менее, бытийствует раскрывающее открытое.
Сущее движется вперед и продвигается к сущему. Только такое продвижение есть, но оно есть только при забвении самого «есть» и его сущности. Это неограниченное продвижение сущего, в котором одно сущее как бы сменяет другое или они нанизываются друг на друга, воспринимается как «бытие». Затем такое неограниченное продвижение сущего к сущему выводит к «открытому», причем в данном случае имеется в виду такое открытое, которое предстает перед нами, когда мы говорим, например, об «открытом море», заполнившем собою весь горизонт и как бы растворившем в себе очертания берега.
Именно о таком «открытом» говорит Рильке в Восьмой Дуинской элегии. Для него «открытое» — это одно лишь непрестанное продвижение одного сущего к другому, совершающееся внутри сущего, самим сущим и только им. Являясь безграничным продвижением сущего к сущему, такое открытое не выходит за пределы сущего и остается прикованным к основе. Такое открытое, а именно открытое как беспрепятственное продвижение сущего, никогда не выходит в свободное (das Freie) бытия — то свободное, которое именно «тварь» (die Kreatur) никогда не может увидеть, потому что возможность усматривать это свободное является сущностным отличием человека, вследствие которого он непреложно отделен от животного. «Открытое» в смысле непрестанного продвижения сущего к сущему, совершающегося в пределах сущего, и «открытое», понимаемое как свободное того просвета, в котором бытие отличается от всякого сущего, с точки зрения их словесного выражения совершенно одинаковы, но по существу они настолько различны, что нет такой формулы противостояния, которая могла бы хоть отдаленно выразить всю пропасть, разверзшуюся между ними. Ведь даже самые крайние противоположности все равно требуют наличия той самотождественной сферы, в которой они как раз и могут друг другу противостоять, но именно ее здесь и нет. Со временем из метафизики полного забвения бытия, лежащей в основании биологизма XIX в., а также в основе психоанализа, возникает то непризнание всех законов бытия, конечным результатом которого является чудовищное очеловечение «твари», то есть в данном случае животного, и «оживотнение» человека. Сказанное здесь — это высказывание о метафизической основе одной поэтической вещи, сделанное в ракурсе основной позиции мышления.
Нам могут возразить, заявив, что мы, не имея на то никаких полномочий, влечем поэзию на суд философии. Да, если «философия» и «поэзия» представляют собой две разные, самодостаточные и в своей сущности окончательно утвержденные способы человеческой деятельности, тогда сказанное здесь можно расценить как «бесчинство». Но что если мышление и поэзия только в изначальном единстве снова обретают свое полномочие? Что если это может произойти лишь потому, что решение о едином обязательстве слова и сказывания должно приниматься в изначальном и вверяться заботе человека? Здесь нам надо было всего лишь покончить с опасностью непродуманного употребления одинаково звучащих слов, и дальнейшие замечания по поводу упомянутой элегии Рильке следует понимать именно в этом ключе.
Итак, то, что Рильке подразумевает под «открытым» в упомянутой элегии, лишь внешним образом созвучно с тем, что постигается как «открытое», когда мы размышляем о сущности ἀλήθεια. В нескольких словах разъяснив, что же именно Рильке понимает под «открытым», мы сможем по контрасту более основательно осмыслить природу того «открытого», которым характеризуется ἀλήθεια, и тем самым подготовиться к более глубокому размышлению.
Итак, об «открытом» Рильке прежде всего говорит в Восьмой Дуинской элегии, которая, что характерно, посвящена Рудольфу Касснеру. Здесь мы не собираемся давать ее подробное разъяснение, да оно и ни к чему. Важно отметить только то, что в свое «открытое» Рильке вкладывает совершенно иной смысл, никак не созвучный тому значению «открытого», которое осмысляется в его сущностной связи с ἀλήθεια и которое можно мыслить в ракурсе мыслящего вопроса.
Начало элегии гласит:
«Во все глаза взирает тварь
В открытое. Лишь наши очи
Обращены вовнутрь, мы в них ее поймали,
Как в западню, закрыв свободный выход.
То, что снаружи, знаем мы
По одному лишь лику зверя...»
Уже первые стихи этой элегии говорят о том, кому дано видеть» открытое, а кому не дано. Глаза «твари» совершенно отличаются от «наших», человеческих, глаз. Но что в данном случае означает «тварь» (die Kreatur)? Существительное creatura происходит от глагола creare (творить) и означает именно «тварь», «создание». Creator — это Творец. В этом смысле creatio, то есть «творение», является основным библейско-христианским определением сущего. Omne ens est qua ens creatum, то есть всякое сущее есть сущее сотворенное, за исключением самого нетварного Творца, представляющего собой summum ens, то есть высшее сущее. Creatura в смысле ens creatum, то есть сотворенного сущего, — это и человек. Согласно библейскому повествованию о творении человек есть та creatura, которая была сотворена в последнюю очередь. В итоге creatura означает «творение», то есть сотворенный мир в его целом, где человек — «венец творения». В таком смысле слово creatura употребляется в известной «секвенции» (Dies irae, dies illa), сочиненной в первой половине XIII в. Фомой Челанским, написавшим также знаменитое житие св. Франциска Ассизского.
Четвертая строфа этого «Dies irae», которую некоторые, наверное, слышат, вспоминая сочинение Джузеппе Верди, гласит:
Mors stupebit et natura
Cum resurget creatura
Iudicanti responsura.
Смерть застынет, а также всё восхождение,
Когда всякая тварь восстанет,
Дабы держать ответ перед своим Судией.
Однако когда Рильке противопоставляет «тварь» человеку, делая это противопоставление единственной темой Восьмой элегии, данное слово не означает creatura в смысле всего творения. Для того чтобы четко определить, какое значение это слово имеет в языке Рильке, нам пришлось бы толковать «Дуинские элегии» в единстве с другими стихотворениями, а именно с «Сонетами к Орфею», в которых эта тема заявляет о себе еще острее. В нашем случае для этого не только нет никакой причины, но нет также тех «герменевтических предпосылок», которые первым делом необходимо почерпнуть из самой поэзии Рильке.
В его элегии слово «тварь» означает «создание» в более узком смысле слова, то есть всякое «живое существо» за исключением человека. Говоря о «твари», или «создании», Рильке не рассуждает как христианин, верящий в сотворение мира Творцом: для него эти слова — просто наименования того живого, которое в отличие от человека как наделенного разумом живого существа, своеобразно «беспомощно», «жалко» и не знает, как себе помочь. «Тварь» — это прежде всего «животное»[xix].
Подчеркнем еще раз: в данном случае «тварь» (die Kreatur) не воспринимается в контексте противопоставления Творцу («creator»), и поэтому речь не идет о ее отличии от Бога: «тварь» — это просто существо, не наделенное разумом в отличие от существа разумного. Однако Рильке не разделяет расхожего представления о «неразумном создании» как иерархически более низком, потому что оно не так могущественно, как более могущественный человек, занимающий в силу этого более высокое положение. Рильке с совершенно противоположной точки зрения смотрит на соотношение возможностей человека и «твари» (то есть животного и растения). Об этой перестановке элегия говорит стихами. Иерархическая перестановка человека и животного совершается в ракурсе того, каковы возможности обоих видов «живых существ» по отношению к «открытому». В соответствии с этим «открытое» есть то, что властно пронизывает собою и названные существа, и все сущее. Значит, речь идет о бытии? Конечно, но тогда все дело в том, в каком «смысле» здесь понимается и выражается бытие сущего. «Открытого» нет вне связи с ἀλήθεια, если последняя представляет собой еще сокрытую сущность бытия. Разве может быть иначе? Однако «открытое» в понимании Рильке и «открытое», которое предвосхищается мыслью как сущность и истина самой ἀλήθεια, радикально отличаются друг от друга и так же друг от друга далеки, как начало западного мышления и завершение западной метафизики, которые, тем не менее, в своей прямой взаимопринадлежности есть одно и то же.
«Во все глаза взирает тварь
В открытое...»
«Лишь наши очи» не видят открытого, не могут видеть его непосредственно. Человек так мало видит открытое, что ему необходимо животное, чтобы увидеть его. Об этом ясно говорят пятый и шестой стихи:
«То, что снаружи, знаем мы
По одному лишь лику зверя...»
Правильно понять, что Рильке подразумевает под «открытым», и вообще по-настоящему об этом спросить мы можем только тогда, когда нам становится ясно, что поэт имеет в виду различие между животным и вообще неразумными живыми существами и человеком. Правда, Гуардини, например, истолковывает данную элегию в том смысле, что отношение «твари» (под которой должно подразумевать ens creatum вообще) к «открытому» как бы является доказательством существования Бога-Творца.
Противопоставляя животное и человека, то есть не наделенное разумом существо и существо разумное, мы оказываемся в сфере того различения, первоначальную форму которого надо искать в Греции. Это различение уже известно нам из наших прежних рассуждений, согласно которым человек есть животное, имеющее слово, τὸ ζῴον λόγον ἔχον, нечто такое, что восходит само по себе и что при таком восхождении, устанавливая отношение к взошедшему, «имеет слово». «Животное» тоже есть само по себе восходящее, но такое, которое лишено слова: ζῴον ἄ-λογον. Что касается сказывания (das Sagen), то оно для греков, в том числе для Платона и Аристотеля, есть τὸ ἀποφαίνεσθαι — возможность появления несокрытого как такового, причем оба добавляют τὸ δηλοΰν, выявление открытого. Человек и только человек есть то сущее, которое, поскольку оно имеет слово, смотрит в открытое и видит его как ἀληθές. Животное же никогда ни единым глазом не видит открытого. Возвращаясь к элегии Рильке, мы видим, что в ней говорится прямо противоположное. Быть может, поэт переиначивает западноевропейское метафизическое определение человека и животного в их «отношении» к открытому?
Согласно основному условию всякого переиначивания («революции») именно то, по отношению к чему оно совершается, остается тем же самым и упрочивается как таковое, однако в нашем случае это не так. Ведь «открытое», о котором говорит Рильке, не является «открытым» в смысле несокрытого. Рильке ничего не знает об ἀλήθεια и совершенно не догадывается о ней, как и Ницше. Поэтому он ни на йоту не выходит за пределы унаследованного метафизического определения человека и животного. Рильке разделяет тот его вид, который закрепился в новоевропейском сознании в ΧΙΧ-ΧΧ вв. Греческое τὸ ζῴον λόγον ἔχον превратилось в animal rationale. Это сущностное определение человека как «разумного существа» так же далеко от его греческого определения, как veritas и certitudo далеки от ἀλήθεια. Человек как animal rationale есть «животное», которое просчитывает свои действия, строит планы, устанавливает отношения с сущим как с чем-то предметным, воспринимает это предметное как нечто перед ним поставленное и упорядочивает его. То, с чем человек устанавливает отношение, всюду предстает как объекты, как пред-меты. В результате этого сам человек становится «субъектом», тем существом, которое, утверждаясь на себе самом, как бы предоставляет себе всё, ему противостоящее, и таким образом фиксирует его. Рильке всюду понимает человека в этом смысле, характерном для новоевропейской метафизики. Это расхожее метафизическое понимание человека везде становится предпосылкой поэтической попытки истолковать его сущность в смысле современной биологической метафизики. Человек есть живое существо, которое, пред-ставляя, при-носит предметы в область своего представления, в этом принесении наблюдает за ними, наблюдая, упорядочивает их и в этом упорядочении оставляет упорядоченное за собой как свое владение, освоенное им тогда-то и тогда-то.
В заключительной части элегии поэт говорит обо всем этом вполне однозначно, тем самым свидетельствуя, что различение человека и животного, а точнее говоря, толкование сущности человека из сущности животного является сквозной темой стихотворения:
«Но мы же — зрители всегда,
Везде во всем и никогда вовне!
Нас распирает. Мы вершим порядок.
Он рушится. Мы вновь его вершим
И сами распадаемся».
Решающей фразой здесь является «и никогда вовне!», то есть никогда в «открытое», которое «тварь» видит «во все глаза», в то время как нам дано знать об этом находящемся «вовне», о том, что «снаружи», только «по одному лишь лику зверя». Что имеет в виду Рильке, говоря об «открытом»? В самый первый момент мы мыслим «открытое» как раскрытое в противоположность закрытому. Раскрытым и открытым является «пространство». Именно в эту сущностную сферу отсылает и открытое, если мы мыслим его как проясненное в смысле раскрытого и несокрытого. Продолжая находиться в ракурсе того мышления, которое мыслит ἀλήθεια в ее сущности, мы однажды достигнем места, где надо спросить о характере связи между несокрытым и пространством. Должны ли мы мыслить несокрытое из сущности пространственного (das Raumhafte) или же пространственное и всякое пространство утверждаются в сущности более глубинно, более изначально постигнутой ἀλήθεια? Открытое в любом случае указывает на пространственное. Сказанное Рильке о «никогда вовне» и о том, что «снаружи» тоже отсылает в эту область. Кроме того, в элегии говорится:
«Пространства чистого, в котором
Цветы восходят бесконечно,
Мы не имеем никогда, ни даже на день».
Здесь «бесконечно» означает как «нескончаемо», то есть не придерживаясь какого-либо предела, так и «в целом». «Восходить» в данном случае означает не по-гречески мыслимое φύειν, а то «восхождение», через которое восходящее, подобно куску сахара, растворяющемуся в воде, распадается и затем вновь воссоздается в целом воздуха и всех космических связей. Такое восхождение возможно потому, что «живому существу» (животному и цветку) ничто не противостоит в качестве предмета, заставляющего постоянно обращаться к самому себе и впадать в ре-флексию. Для Рильке основное значение слова «открытое», то значение, которое полагает меру и лежит в основе всего прочего, есть значение безмерности, бесконечности, в котором живые существа переводят дух и беспрепятственно растворяются в ничем не сдерживаемых действенных взаимосвязях природы, чтобы парить в этом безмерном. Имея в виду эту без-мерность Рильке называет животное «свободным зверем». Свои слова о том, что «во все глаза взирает тварь в открытое» и что «открытое» «столь глубоко в зверином взоре», поэт обосновывает поэтически. Необходимо пояснить, о каком «взирании» здесь говорится. О «наших очах» Рильке говорит, что они «обращены вовнутрь», не устремляют свой взор в беспредметное, но, пред-ставляя предмет, преломляют этот взор и возвращают его назад. Поэтому когда мы смотрим на какое-либо животное, мы улавливаем его в наше представление в качестве предмета, и в результате совершаемого нами опредмечивания «свободный выход» звериного взора в открытое наталкивается на препятствия, улавливается. Для звериного взора наши глаза — это «западня», в которую он попадает и из которой потом не может выбраться. Наши глаза — «западня», которая захлопывается, закрывается за открытым, не давая ему проявиться. О том, что здесь имеется в виду, нам лучше всего говорит представление об «открытом море», когда очертания берегов растворяются в бескрайней дали. Открытое — это растворение, отсутствие границ и пределов, нечто беспредметное, которое, однако, мыслится не как некая нехватка, а как изначальное целое действительного, куда животное вступает напрямую, как бы освобождаясь в него.
Что касается человека, то он, напротив, вынужден вступать в отношение к объекту, перед которым он предстает как субъект; такое отношение приковывает целое того открытого, которое имеет в виду Рильке, к определенным местам и запирает его в них. Рильке считает, что животное видит больше человека, потому что его взор не скован ничем предметным, но (непонятно, правда, каким образом) устремляется в бесконечное беспредметное (das Gegenstandlose), «имеет пред собой» безмерное. На его пути никогда не возникает никакой преграды и, стало быть, смерти. Устремляясь в безграничное, животное «свободно от смерти», и, в отличие от человеческого представления (das Vorstellen), это устремление никогда не преломляется и не возвращается назад, никогда не видит то, что позади него. Если не слишком следить за точным значением слов, то безграничное, взятое в его целом, можно назвать и «Богом». Поэтому в данной элегии встречаются такие слова:
«...Свободен зверь.
Его кончина всегда за ним.
Пред ним же — Бог, и если зверь уходит,
То он уходит в вечность, как родник».
Все это звучит очень странно, но тем не менее это всего лишь поэтическое выражение популярной «биологической» метафизики, характерной для конца XIX в. Если мы говорим — а тогда это тоже говорилось и со времен Декарта стало просто непреложным — что человеческое представление есть само себя сознающее, рефлектированное сознание предметов, то в таком случае поведение животного есть не осознающий себя и в этом смысле бессознательный напор влечений и порывов, направленный в нечто предметно неопределенное.
Как свободное животное превосходит обреченного на тюрьму и пойманного в нее человека, так бессознательное превосходит сознательное. В рассматриваемой нами элегии слышатся отголоски философии Шопенгауэра, опосредствованной философией Ницше и психоанализом. Несмотря на то что ницшевская метафизика (если иметь в виду его учение о воле к власти) в этой элегии не дает о себе знать, и там, и здесь царит нечто радикально общее: сущность человека постигается из сущности животного, только там это промысливается, а здесь «прочитывается поэтически». С чисто метафизической точки зрения, то есть в ракурсе истолкования сущего как рационально-иррациональной действительности, область основного поэтического опыта Рильке ничем не отличается от основной мыслительной позиции Ницше. И тот, и другая, как и вообще новоевропейская и средневековая метафизика, предельно далеки от сущности истины, понимаемой как ἀλήθεια. В то же время поскольку новоевропейская метафизика покоится на том же фундаменте, что и средневековое метафизическое истолкование христианства, а именно на переистолкованной в римском духе метафизике Платона и Аристотеля, данное поэтическое произведение Рильке можно легко истолковать как последний отголосок современной метафизики как секуляризированного христианства и показать, что то, что подверглось секуляризации, представляет собой лишь эпифеномен по отношению к прафеномену христианства. При таком разъяснении поэзия Рильке предстает как некий вид потерпевшего неудачу христианства, которому непременно надо прийти на помощь, несмотря на то, что такая апологетика может исказить вполне ясное слово поэта и его волю.
Другие могут возразить, сказав, что им нет дела до по-христиански апологетической чеканки поэзии Рильке. Они отвергают всякую попытку измерять ее «философской» меркой. Их интересует только его художественно-поэтическое слово.
Нет сомнения в том, что такая позиция верна и к тому же она отвечает воле самого поэта, но при таком подходе один вопрос все-таки остается: к чему призвано поэтическое слово? Этот вопрос коренится в другом, более существенном: какая истина свойственна поэзии как поэзии? Одно только упоминание о своих переживаниях и впечатлениях, призванное к тому, чтобы сделать неугасающую любовь к поэту последним подтверждением значимости его слова, — всего этого слишком мало, а точнее говоря в данном случае все это вообще ничего не значит: не значит в эпоху, когда не просто решается судьба бытия или небытия какого-то народа, но решительно ставится на карту сущность и истина самого бытия и небытия. Поэтому было бы важнее — потому что объективно вернее — включить поэзию Рильке в наследие христианского сознания, вместо того чтобы вверять ее суду субъективных «переживаний» какого-то растерянного одиночки.
Мы бы, конечно, весьма поторопились и к тому же поступили бы неправильно, если бы стали говорить, что, рассуждая о том, как Рильке понимал «открытое», мы стремимся поверить поэзию меркой философских понятий и оценивать и даже судить ее по этому мерилу. Однако мы уже соотнесли сказанное Рильке об «открытом» с сущностной сферой ἀλήθεια, и теперь остается решить, является ли это слово всего лишь так называемым философским понятием или, быть может, в ходе предыдущего размышления выяснилось, что оно именует то событие, к сфере которого принадлежит и «открытое» Рильке, и тогда, подобно всякому западному слову, говорящему о бытии и истине, это сказывание может или ощущать в себе последнее содрогание того события, или уже давно не помнить о нем.
Правда, между тем, что называет «открытым» Рильке, и открытым в смысле несокрытости сущего пролегает пропасть. «Открытое», бытийствующее в ἀλήθεια, позволяет сущему взойти и присутствовать как сущему. Такое открытое видит только человек. По существу, почти всегда человек смотрит в это открытое в силу того, что всегда и везде устанавливает свое отношение к сущему, независимо от того, предстает ли оно в ракурсе греческого восприятия, то есть как восходящее присутствующее, в ракурсе христианского восприятия, то есть как сотворенное сущее (ens creatum) или, наконец, в новоевропейском мировосприятии, то есть как предмет. Устанавливая свое отношение к сущему, человек заранее смотрит в открытое — смотрит потому, что стоит в открывающей и открытой проекции бытия. Без открытого, бытийствующего как само бытие, сущее не могло бы быть ни раскрытым, ни сокрытым. Человек и только человек смотрит в открытое, не усматривая его. Бытие как таковое усматривается только сущностным взором настоящего мышления, но и здесь оно может усматриваться только потому, что мыслитель как человек уже видит его.
Что касается животного, то оно никогда не видит и не усматривает открытого в смысле несокрытости несокрытого. Поэтому оно не может двигаться в закрытом как таковом равно как не может устанавливать отношение к сокрытому. Животное исключено из сущностной сферы борьбы между несокрытостью и сокрытостью, и признаком этой сущностной исключительности является тот факт, что никакое животное (да и растение) не «имеет слова».
Однако, когда мы говорим о том, что животное исключено из сущностной сферы несокрытости, перед нами только вырисовывается загадка всего живого именно как загадка. Ведь животное связано с пищей, добычей и размножением, и его отношение к этому существенно иное, чем отношение камня к той земле, на которой он лежит. В сфере того живого, которое суть растения и животные, мы обнаруживаем своеобразную самоподвижность, в соответствии с которой можно говорить о том, что это живое «воз-буждено», то есть движимо к своему восхождению в сфере возбудимости, благодаря которой оно вовлекает другое в область своей самодвижимости. Никакая подвижность и возбудимость, свойственная растению и животному, никогда не приносит живое в свободное (das Freie) так, чтобы возбужденное позволило возбуждающему «быть» именно таким, каково оно есть как возбуждающее, не говоря уже о том, каково оно перед возбуждением или без него. Растение и животное находятся как бы вне себя, никогда не «видя» ни внешнего, ни внутреннего, то есть не находясь несокрыто в свободном (das Freie) бытия. Конечно, камень, равно как самолет, никогда не смогут, ликуя, живо вознестись к солнцу, как это делает жаворонок, и тем не менее эта птица не видит открытого. Что она «видит», как «видит» и что означает «видеть» тогда, когда мы ловим ее «взгляд», — все это остается под вопросом. Чтобы хоть как-то предугадать, какова природа того сокрытого, которое отличает живое, потребовалось бы исконная поэтическая сила, такая поэзия, которая призвана к большему, к более высокому, более существенному (потому что оно существенно в своей сути) по сравнению с той, которая предается простому очеловечению растения и животного. В метафизике же человек одновременно постигается как живое и как «животное» в широком смысле — по причинам, которые отсылают к тому, как само бытие раскрывается изначально.
Поскольку в метафизике человек постигается и мыслится как разумное животное, животность каждый раз истолковывается, в сравнении с разумностью, как нечто неразумное, без-умное, то есть рассматривается в соотнесении с человеческой рассудительностью и инстинктами. Таким образом, в метафизике и, как следствие, во всей науке тайна живого остается без внимания: живые существа или отдаются во власть химии, или рассматриваются в горизонте «психологии», причем в обоих случаях утверждается, что речь идет о разгадке тайны жизни. Этого не произойдет никогда, и не только потому, что всякая наука всегда остается прикованной к предпоследнему, а последнее вынуждена пред-полагать как первое: на этих путях загадку жизни никогда не разгадают и потому, что уже заранее оставили тайну живого.
Поскольку и в стихотворении Рильке сущностная граница между тайной живого (das Lebendige) (растение — животное) и тайной исторического (das Geschichtliche), то есть человека, не постигается и не удерживается, его поэтическое слово нигде не достигает той высоты, на которой принимается решение, полагающее начало истории. Кажется, что в этом стихотворении происходит безмерное и безосновательное очеловечение животного, в результате которого оно даже ставится выше человека (в смысле обладания изначальным опытом сущего в целом) и в какой-то степени становится «сверх-человеком»:
«То, что снаружи, знаем мы
По одному лишь лику зверя...»
Здесь следовало бы спросить: кто такие «мы» в данном случае? «Мы» — это современные люди новоевропейской метафизики, чья человеческая природа показала всю свою несостоятельность, предав забвению сущностный опыт бытия.
В том, как современный человек относится к поэзии Рильке, нередко есть много серьезного и исполненного труда, однако не меньше и путаницы, поверхностности и стремления куда-то убежать. Люди наслаждаются словами и не думают о самом сказанном. Поэтому не задумываясь говорят об «открытом» и не спрашивают, как оно относится к открытости открытого, не означает ли она лишь бесконечное расширение контуров предметов или, быть может, в слове «открытое» мыслится несокрытость, которая вообще высвобождает предметы в их предметное как то свободное, без коего даже ничто не могло бы заявить о себе в своей не-сущности и повсюду распространить свою угрозу.
«То, что есть снаружи» и что вообще есть, будь то «снаружи», «внутри» или вне «пространства», — об этом мы знаем только из знания бытия, которое само бытийствует как свободное, в чьем просвете сущее находит вход в несокрытость, из несокрытости — восхождение в проявление, а с ним — лад присутствования.
§ 9. Θεά — Ἀλήθεια
Взирание бытия в им же проясненное открытое (das Offene).
Направление отсылки на сказанное Парменидом:
путь мыслителя к дому богини Ἀλήθεια и путь его мысли к началу.
Сказывание начала западноевропейского сказания
Теперь, наверное, некоторые вещи мы видим отчетливее. Открытое, которое господствует в сущности ἀλήθεια, потому так трудно усмотреть, что оно не только остается самым близким для нас, но и потому, что проясняет и, таким образом, представляет нам все самое близкое и саму близость, равно как и даль.
Однако эта трудность усмотрения открытого лишь свидетельствует о том, что всё, что могло бы здесь прийти в наш сущностный взор, в своем прибытии скорее зависит от нас, потому что нам еще недостает ладящего полномочия для того, что, будучи самим бытием, уже постоянно при-лаживается к нам и потому тут же вновь и вновь ускользает, причем так, что мы даже не подозреваем об этом событии.
Тем не менее теперь мы, наверное, можем быстрее осмыслить и уяснить ту простую мысль, что именно ἀλήθεια есть взирание бытия в им же самим проясненное открытое (das Offene) (и проясненное как оно само, бытие). Это открытое открыто для несокрытого всякого появления. Чтó обладает такой сущностью и не является ли она лишь простым «понятием»? В предыдущем размышлении мы стремились только к одному: в опыте мысли подобраться к этому удивительному вопросу.
Ἀλήθεια есть θεά, богиня, но, наверное, это так только для греков и даже лишь для некоторых греческих мыслителей. Для греков истина — это, конечно же, богиня, как они ее понимают.
Но что есть сущность истины для нас? Мы этого не знаем, потому что у нас нет единого мнения ни о сущности истины, ни о нас самих, и мы не знаем, кто есть мы сами. Быть может, это двойное незнание, то есть незнание истины и незнание нас самих, по существу — одно и то же. Но хорошо, по крайней мере, то, что мы уже знаем об этом нашем незнании — хорошо ради бытия, перед которым мышление замирает в благоговении. Мышление — это не знание, но, быть может, оно существеннее знания, потому что ближе бытию в той близости, которая окутана далью. Мы не знаем ее, сущности истины. Поэтому надо, чтобы мы спрашивали о ней и сталкивались с этим вопросом в смысле постижения того, каково самое малое условие, которое нам надо выполнить, коль скоро мы собираемся почтить сущность истины своим вопрошанием. Условие гласит, что нам надо стать мыслящими.
Предпринятое размышление приводит к одному соображению, согласно которому о сущности истины мы можем думать только тогда, когда ступаем на самый край сущего в целом. Тогда нам становится ясно, что близок миг истории, неповторимость которого ни в коей мере не определяется одним только состоянием сущего мира и нашей собственной историей в нем. Речь идет не только «о» бытии и небытии нашего исторического народа, речь идет не только «о» бытии или небытии «европейской культуры, потому что здесь мы всегда имеем дело только с сущим. Прежде всего этого на карту изначально поставлена судьба самого бытия и небытия, то есть бытия и небытия в их сущности, в истине их сущности. Как спасти сущее и сокрыть его в свободном (das Freie) его сущности, если сущность бытия не решена, если о ней не вопрошают и даже не помнят?
Без истины бытия никогда не бывает постоянства сущего, без истины бытия, без бытия и сущности истины даже решение о судьбе бытия и небытия сущего остается без открытого (das Offene) свободы, из которой начинается всякая история.
Вновь возникает вопрос: что есть для нас сущность истины? В этих лекциях мы стремились лишь указать на ту сферу, из которой говорит слово Парменида.
Направление данной отсылки указывало на то, куда направляется изначальный мыслитель. Это жилище богини Ἀλήθεια. Затем от этого дома намечается настоящий путь его постижения. Дом богини — это место первого прибытия странствующей мысли, но этот же дом является исходной точкой для дальнейшего странствования того мышления, которое вынашивает все связи с сущим. Сущностная тональность этому дому целиком и полностью задается пребыванием в нем богини. Только ее пребывание в нем делает этот дом тем, что он есть. Однако в этом пребывании исполняется «сущность» богини. Она есть дарующее себя и таким образом вселяющееся в сферу своего дарования взирание света в лишенное света. Ἀλήθεια есть раскрытие, скрывающее в себе весь восход и всяческое появление и исчезновение. Ἀλήθεια есть сущность истинного: истина. Истина бытийствует во всем бытийствующем и есть сущность всей «сущности»: существенность.
Познать ее — предназначение мыслителя, который мыслит изначально. Его мышление знает в существенности сущность истины (не только истинного) как истину сущности.
Как сущность восхождения (φύσις) Ἀλήθεια есть само начало. Путешествие к дому богини есть устремленность мысли к началу. Мыслитель мыслит начало, поскольку он мыслит об Ἀλήθεια. Повсюду такое памятующе-припоминающее мышление есть единственная мысль мыслителя. Став речением мыслителя, эта мысль вступает в слово западного сказания.
Это сказание сказывает сущность истории, которая — поскольку она остается историей бытия, а бытие проясняет себя внезапно — непрестанно бывает в своей самобытности в неожиданном (das Unversehliche) начал начала. История, настроенная из изначальной сущности просвета бытия, вновь и вновь посылает сущее в один лишь судьбоносный закат долго длящихся сокрытий. И согласно этой посланной судьбе здесь господствуют закаты, вечера изначальных восходов.
Край, вовлеченный этой историей в ее пространство-время и там сокрытый, есть вечерний край (das Abend-land), согласно изначальному (то есть бытийно-историческому) смыслу этого слова.
Западное сказание сказывает начало, то есть еще сокрытую сущность истины бытия. Слово западного сказания хранит причастность западного человечества к жилищу богини Ἀλήθεια.
ПРИЛОЖЕНИЕ
[Данный материал является первым наброском заключительной части первого «Повторения» из § 5. Этот текст на лекциях не читался. — Изд.].
Современный человек «переживает» мир и мыслит его, исходя из своего переживания, то есть исходя из себя самого как того сущего, которое лежит в основе всякого разъяснения и упорядочения сущего в его целом. На языке метафизики лежащее в основе называется «subjectum». По своей сущности новоевропейский человек есть «субъект». Только потому что он — «субъект», «я» и «яйность» человека становятся существенными. В результате того, что этому «я» противополагается «ты» и «я» оказывается заключенным в определенные пределы, характеризующиеся отношением «я-ты»; в результате того, что на смену индивиду приходят общество, нация, народ, континенты и, наконец, вся планета, субъективность новоевропейского человека в ее метафизическом понимании никоим образом не упраздняется, но незамедлительно перемещается в свою безусловность. На смену сущностному мышлению приходит «антропология», англо-американской разновидностью которой является социология. Только там, где человек стал субъектом, не-человеческое сущее становится объектом. Только в сфере субъективности может возникнуть полемика об объективности, ее значении, вреде и пользе и только в ней может решаться вопрос о том, чем в том или ином случае эта объективность оборачивается, пользой или вредом.
Однако поскольку в эллинстве сущность человека не определяется как «субъект», новоевропейскому «мышлению» трудно и непривычно постигать начало исторического Запада, особенно если вспомнить о том, что современное «переживание» не просто привносит свои «переживания» в эллинство и ведет себя так, как будто оно с ним на «ты» — по той простой причине, что в больших городах современный человек привык время от времени устраивать «олимпиады». Здесь от греческого только название. Мы ничего не хотим сказать против самих олимпиад: мы против того заблуждения, что нечто подобное может иметь хоть какое-то отношение к истинно греческому, к греческой сущности. Сущность же эту нам надо знать, если мы хотим познать совсем другую сущность новоевропейской истории, то есть одновременно постичь нашу собственную судьбу в его сущностной определенности. Однако эта задача очень серьезна и страшна, чтобы хоть в какой-то мере обращать внимание на всякое недомыслие и болтовню. Тот, кто воспринимает сказанное на этих лекциях в его собственном смысле, то есть видит, что они призывают прислушаться и начать внимать тому, что открывается в мышлении, со временем научится отключаться от слишком быстро и назойливо заявляющих о себе жалобных «эмоций», характерных для какой-нибудь поверхностной и не в меру словоохотливой «точки зрения». Тот же, кто пришел сюда лишь для того, чтобы «подогреть» свои политические или антиполитические, религиозные или антирелигиозные, научные или антинаучные эмоциональные порывы, — тот заблуждается, путая пришедшее ему в голову в такой вот вечер с тем, что с исторического начала существования Запада на протяжении двух с половиной тысячелетий не перестает требовать осмысления. Того, кто мыслит, там и сям бытующая глупость не может заставить отказаться от стремления поместить сущностное в ракурс своего сущностного взора. Неуемную болтовню нельзя остановить. С другой стороны, если мы станем равняться на тех, кому просто лень мыслить, это создаст угрозу для сущностного мышления.
В наших разговорах о «римском» начале уже успели усмотреть вражду по отношению к «христианскому». Но пусть лучше теологи подумают, не является ли предпринятое здесь размышление над сущностью истины, рассмотренное в его целостности, более плодотворным для сохранения христианства, чем страстное, но превратное желание соорудить на «основе» современной атомной физики новые «научно» обоснованные доказательства бытия Божия и «свободы воли».
Восходящая сущность бытия изначально настраивает и обустраивает способ сокрытия несокрытого как слово. Только сущность слова настраивает и обустраивает сущность отвечающего ему человеческого начала и так посылает его в историю, то есть в сущностное начало и изменение сущности истины сущего. Нельзя, однако, думать, что где-то существует некое человечество, которое создает себе некое представление о бытии и затем наделяет себя им, как будто бытие и это представление подобны рогу, образовавшемуся на голове быка, с каковым он потом и прозябает. Бытие и истина бытия существенно выше всякого человека и всякого человечества, и именно поэтому там, где человек как человек исторический призван хранить истину бытия, может (и только вследствие этого и должна) «идти речь» о «бытии» или «небытии» человеческой сущности. Закат никогда не преодолевается лишь тем, что его задерживают, как бы тормозят и затем «переправляют» в прогресс и в «лучшие времена». В такой ситуации любой прогресс будет лишь отходом куда-то в сторону, «прочь от» сущностной сферы начала. Закат можно мыслить и постигать только перед лицом начала. Закат преодолим только тогда (и тогда он уже преодолен), когда это начало спасено, а спасти его можно только в том случае, если оно может быть тем началом, каково оно есть. Начало только в том случае изначально, когда само мышление и человек в своей сущности мыслят из начала. Речь не идет о невозможном, то есть о том, чтобы повторить первоначало в смысле возрождения эллинства и тем самым перенести его в сегодняшнее. Речь идет о том, чтобы, мысля из этого начала, вступить в разбирательство и спор с ним — дабы услышать голос, задающий тон будущего настроя и устрояющего предназначения. Этот голос можно будет услышать только там, где есть опыт внимания ему. В своей сути этот опыт есть боль, в которой сущностное инобытие сущего раскрывается по отношению к привычному. Высшая форма этой боли есть смертное умирание, умирание смертью, которая ради сохранения истины бытия приносит в жертву человеческое бытие. Эта жертва и есть чистейший опыт внимания голосу бытия. Но что если то историческое человечество, которое, как и греки, призвано к поэзии и мышлению, — это немцы? Что если именно они первыми должны услышать голос бытия? Разве тогда не потребуются жертвы? И не важно, по каким причинам они совершатся в ближайшее время, потому что жертва имеет свою собственную сущность в себе и не преследует никакой цели и пользы! Что если в нашем историческом предназначении уже зазвучал голос начала?
Но вдруг это начало ввергнется в забвение? Разве не поймем мы тогда, что забывание — это не простая небрежность человека, не его упущение, но то событие, которое принадлежит сущности самого бытия, то есть несокрытости?
Что если не только человек забыл сущность бытия, но само бытие забыло человека и отпустило его в самозабвение? Разве наш разговор о λήθη всего лишь ученая забава?
Греки много молчали о λήθη. Но порой они говорят слово. Гесиод упоминает о ней вместе с λιμός, отсутствием пищи как одной из дочерей скрывающей ночи. Пиндар говорит о ней и направляет наш взор в ее сокрытую сущность.
ПОСЛЕСЛОВИЕ НЕМЕЦКОГО ИЗДАТЕЛЯ
Настоящий пятьдесят четвертый том «Полного собрания» содержит ранее не издававшийся текст одночасовых лекций, прочитанных Мартином Хайдеггером во Фрайбургском университете в зимнем семестре 1942-1943 гг. и носивших название «Парменид и Гераклит».
Поскольку почти весь курс был посвящен Пармениду, в заглавие данного тома было решено вынести только его имя. В «Полном собрании» этот том стоит на восемнадцатом месте.
В распоряжении издателя находились пронумерованные составителем восемьдесят четыре страницы рукописного текста, легшего в основу данного курса, а также тридцать четыре рукописные страницы «повторений». Мартин Хайдеггер подготовил «повторения» не для всех лекций; имеющиеся были внесены издателем в указанные составителем страницы текста.
Рукописи представляют собой беспорядочно исписанные страницы форматом ин-фолио. На правой половине страниц содержатся многочисленные как бы нанизанные друг на друга вставки, причем каждый раз Хайдеггер указывает, куда их внести.
В конце книги в качестве «Приложения» дается отрывок из одного «повторения», который Хайдеггер не включил в лекцию, назвав «простым наброском» (этот отрывок предполагалось включить в пятый параграф первой части данной лекции).
В распоряжении издателя находились машинописные копии всех упомянутых рукописей, которые были два раза сверены с оригиналом. В копиях отсутствовали некоторые места из рукописей, которые затем были внесены туда по указанию составителя.
Во время подготовки к лекциям о «Логосе» Гераклита (см. «Полное собрание», том 55) Хайдеггер просмотрел их машинописные копии и во многих местах расширил лекционный материал, внеся отчасти небольшие, а отчасти и пространные добавления. Они были просмотрены издателем и все без исключения внесены в предлагаемый текст.
Деление на параграфы и подразделы осуществлено издателем, перу которого принадлежат и заголовки, по смыслу тесно связанные с самим лекционным материалом. В соответствии с пожеланием автора в начало тома вынесено подробное оглавление, которое вместе с необходимым членением текста призвано к тому, чтобы структура лекций стала ясной читателю.
В связи с выходом настоящего издания необходимо упомянуть о статье «Мойра (фрагмент Парменида VIII, 34—41)», опубликованной в сборнике «Доклады и статьи», вышедшем в 1954 г. в издательстве Гюнтера Неске (четвертое издание вышло в 1978 г.).
За помощь, оказанную мне во время работы над изданием этого текста, я хотел бы сердечно поблагодарить доктора Г. Хайдеггера, доктора Г. Титьена и пастора В. Дейгле, любезно согласившихся просмотреть машинописные копии, а также профессора Ф.-В. фон Германа, взявшего на себя труд по расшифровке некоторых рукописных отрывков. Кроме того, я благодарю профессора Фрэнсиса Фавтера из De Paul University за оказанную техническую помощь.
De Paul University,
Чикаго, октябрь 1981 г.
Манфред Фрингс
ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
Мы рассмотрим лишь некоторые, на наш взгляд, наиболее существенные термины, в значительной мере определяющие смысловую тональность фрайбургских лекций о Пармениде.
Прежде всего коснемся довольно «непритязательного», но тем не менее важного слова «Anspruch». Нередко хайдеггеровское «Anspruch des Seins» переводят как «требование бытия» (и вообще всякий Anspruch, обращенный к подлинно «бытийному» мыслителю, каковым, с точки зрения Хайдеггера, вместе с немногими другими и является Парменид, часто переводится как «требование»). Действительно, в наших лексиконах Anspruch — это «требование», но в том контексте, который задает Хайдеггер, такой перевод нам представляется в какой-то мере формальным. Нельзя не заметить, что в хайдеггеровском онтологическом различении бытия и сущего бытие всегда каким-то образом «личностно» и к тому же именно оно делает первый шаг «в сторону» человека, заставляя его своей «бытийной» мыслью прислушиваться к бытию, если, конечно, речь идет о настоящем «мыслителе бытия». Уже в «Бытии и времени», пусть даже в качестве собственно методологической установки, акцентируется «опережающее» действие бытия («Как искание спрашивание [о бытии] нуждается в опережающем водительстве от искомого»); далее во «Введении» к лекции «Что такое метафизика?» говорится о том, что само бытие захватывает мысль («Что само бытие и как само же бытие захватит здесь мысль [т.е. на пути преодоления метафизики], не в первую очередь и не единственно зависит от мысли. То, что само бытие касается мысли и то, как оно его касается, готовит ее к скачку, в котором она возникает из самого бытия, чтобы таким образом отвечать бытию как таковому»); наконец, в «Послесловии» к этой лекции, которое, кстати, было добавлено к четвертому ее изданию в 1943 г., т. е. в то же самое время, когда читались лекции о Пармениде, перевод каковых мы и предлагаем читателю, говорится, что «мысль, послушная голосу бытия, ищет ему слово, в котором скажется истина бытия». После «поворота» «личностный» характер бытия не только усиливается (по мере нарастания собственно герменевтических тенденций в философствовании Хайдеггера), но само бытие в какой-то мере «мифологизируется» в ходе разработки специальной терминологии для его «беспонятийного» постижения (das Geheure, das Ungeheure, специфическое осмысление греческих δαίμονες, θεάοντες и вообще греческого мифа). В лекциях о Пармениде, которые уже не столько логическое обоснование первенства бытия, осуществляемое в рамках прежнего философствования «Бытия и времени», сколько чистая герменевтика греческих текстов, синонимом бытия выступает уже не «ничто», не «ничто сущего» и даже не «безусловно другое» по отношению к «сущему в целом», а греческие боги, понятые в их исконном, как полагает Хайдеггер, смысле («Боги греков» есть само бытие, взирающее в сущее»).
Итак, бытие обращается к человеку самим собой, т. е. оно как бы «заговаривает» с человеком, «окликает» его, а не выдвигает какое-то «требование», содержание которого всегда надо определять post factum, потому что требование — это, в основном, «требование чего-то», а в бытийном обращении к человеку еще нет никаких требований, а есть именно обращение как встреча или призыв к ней. Сообразуясь с контекстом, мы переводим Anspruch именно как «обращение», как «призыв», обращенный к человеку в смысле «безъязыкого», безмолвного заговаривания бытия с человеком, «окликания» человека.
Однокоренной глагол ansprechen («заговаривать с кем-либо», «обращаться к кому-либо» (в том числе и с просьбой), «домогаться кого-то») подкрепляет наше решение. Приведем несколько мест из «Парменида», иллюстрирующих нашу мысль. «Nur dann, wenn dieser Anspruch des Seins und nicht irgendein Gegenständliches aus der Mannigfaltigkeit des Seienden uns im Wort des Parmenides anspricht, hat die Kenntnis seiner «Sätze» ein Recht. Ohne das Aufmerken auf diesen Anspruch geht auch alle Sorgfalt, die wir auf die Erläuterung dieses Denkens verwenden mögen, ins Leere» (Parmenides, S. 5). T.е., знание «тезисов» Парменида обосновано тогда, когда в его слове к нам обращается бытие, а не нечто предметное. Здесь примечательно соседство существительного Anspruch и глагола ansprechen: «Anspruch des Seins... uns... anspricht», т. е. совершается обращение бытия к нам, заговаривание с нами. Существенно и дальнейшее Aufmerken: глагол aufmerken означает «внимательно слушать», «прислушиваться», «настораживаться», т. е. речь идет о «настороженном прислушивании» к этому обращению, призыву.
«Ja, nicht einmal die Besinnung darauf kann er finden oder gar erfinden, wenn ihn nicht die Spuren eines solchen Denkens ansprechen und wenn er sich nicht auf ein Gespräch mit diesem Anspruch einläßt». T.е., попросту говоря, своими силами, своим разумением человек никак не может «подобраться» к мысли о бытии и, на худой конец, не может даже вымыслить ее, если прежде бытийное мышление само не «заговорит» с ним, а он в ответ на это не вступит в «разговор» с этим «заговариванием». Упоминание Anspruch, ansprechen и Gespräch в едином смысловом поле позволяет говорить о некоей «речи» в бытии.
Наконец, приведем отрывок, где на самом деле встречается «требование», но встречается как Forderung, которая соседствует с Anspruch. Это отрывок из лекций о Гераклите, читанных приблизительно в то же время, что и лекции о Пармениде: «Dann stünde es so, daß wir nicht einmal wissen oder auch nur entfernt darauf achten, unter welchem Anspruch wir stehen, wenn wir der geläufigen Forderung zu folgen versuchen, richtig zu denken». В контексте этого отрывка речь идет о научении настоящей, глубинной, бытийной «логике», понимаемой не как наука о способах суждения, а как мышление бытия, рождающееся из слушания (das Hören) человеческим «логосом» исконного «Логоса» бытия. Здесь Anspruch этого «Логоса» по смыслу тождествен тому Anspruch «бытия», о котором говорится в «парменидовских» лекциях, т.е. это тоже «зов», «призыв», «обращение», которому надо внимать, в который надо вслушиваться (hinhören) и о котором начинаешь догадываться, пытаясь следовать расхожему требованию (Forderung) «правильно мыслить».
«Долго хранимая безъязыкость» бытия, «чистейший опыт голоса бытия» («die reinste Erfahrung der Stimme des Seins»), необходимость внимать голосу бытия («die Stimme des Seins vernehmen»), «голос начала» («die Stimme des Anfangs»), т. е. той бытийной исконности, которая была предана забвению, «беззвучный голос потаенных источников» бытия и т. д., — все это говорит в пользу Anspruch как обращения и «заговаривания». Заканчивая с Anspruch, приведем красивый отрывок из «парменидовских» лекций, в котором хорошо просматривается «иерархическое главенство» бытия в его бытийном совершении себя самого «ради человека»: «Но разве может сущее появиться перед человеком, если человек сам уже как-то не относится к сущему как сущему? И далее: могло ли бы совершаться это отношение человека к сущему как таковому, если бы человек заранее не находился в состоянии отнесенности к бытию? Если бы человек уже каким-то образом не усматривал бытия, он даже не мог бы помыслить ничто, не говоря уже о том, чтобы как-то постичь сущее. Но как бы он мог стоять в этой отнесенности к бытию, если бы прежде само бытие не обратилось к нему (wenn nicht das Sein selbst den Menschen anspricht) и не призвало к себе его существо?»
Второй момент касается перевода «бытийных» терминов с общим корнем «wesen». В немецком языке «бытие» как будто обладает большим лексическим пространством: здесь мы имеем «классическое» das Sein и не столь «классическое» das Wesen, которое в морфологическом отношении не так независимо, как das Sein (в конце концов, в нем как будто проглядывает его «производность» от собрата, пусть даже в обличье партиципа «gewesen»), и к тому же «отягощено» другими смыслами («сущность», «нрав» и проч.). Правда, в старом лексиконе И. Павловского «Sein» дается и как синоним к «Wesenheit», т.е. к «сущности», но все-таки «сущность» куда прочнее закрепилась за «Wesen», быть может, в ущерб «бытийному» смыслу последнего, и закрепилась, конечно, в результате слишком «платонизированного» прочтения греческой οὐσία. Последняя, однако, вполне позволяет понимать себя и как «бытие», причем у того же Платона, когда речь заходит о жестком противопоставлении «небытию» (οὐσία καὶ μὴ εἶναι).
Если попытаться прочесть перевод ключевого термина Anwesen в перспективе онтологической дифференции «бытия» и «сущего» (точнее говоря, с точки зрения лексической оформленности этой дифференции), то получается следующая картина. В переводе Anwesen как «присутствия» (вариант В. Бибихина; «Как присутствие мы переводим также хайдеггеровское Anwesen», — пишет он в примечаниях к переводу работы «Что такое метафизика»?) хорошо просматривается момент «нахождения-при», каковым у Хайдеггера и характеризуется человеческое существование (немецкий префикс «an-» хорошо передается приставкой «при-»), но как будто слышится не столько «бытие», сколько «сущее». В переводе Anwesen как «пребывания» (вариант А. Михайлова, которому он остается верен в своем переводе «Истока художественного творения», где, например, Anwesenheit передается им даже как «бытийное пребывание») сохраняется «бытие», но зато, на наш взгляд, утрачивается момент упомянутого «нахождения-при» (ведь приставка «пре-» в первую очередь стремится подчеркнуть, что речь идет не о каком-то случайном, иногда случающемся «бывании», а именно о пребывании, т.е. о бытии, не утрачивающем своего постоянства: «Странников много в монастыре бывает, а пребывателей мало»). В переводе наиболее распространенных хайдеггеровских «бытийных» префиксальных лексических конструкций всегда как будто «проглядывает» хайдеггеровское же «сущее» со всеми его «онтическими» обертонами. Оно слышится во вполне устоявшихся, словарных «присутствовать» (anwesen), «отсутствовать» (abwesen), каковые, кстати, своей «симметрией» искушают увидеть «сутствование» как некий инвариант, но утрачивают свою «схематическую» силу, когда речь заходит о сугубо хайдеггеровских «бытийных» глаголах: umwesen, zuwesen, durchwesen, hereinwesen, wegwesen и т.д. и когда перевод, ориентированный на исходное «сутствовать», становится весьма затруднительным.
С другой стороны, попытка отыскать в языке некие совершенно разные лексические «одежды» для двух полюсов онтологической дифференции заранее обречена на провал, поскольку наше «сущее» — всего лишь презенсное причастие от глагола «быть» (и эта, казалось бы, сугубо грамматическая «причастность» весьма символична). В конце концов, и Seiende, коль скоро оно — причастие от Sein, можно было бы перевести не только как «сущее», но и как «бытийствующее», сохранив тем самым единообразие корневого звучания обоих слов (кстати, в немецком, в отличие от русского, это морфологическое «единство образа» совершенно очевидно), но тогда утратилось бы уже давно упрочившееся das Seiende как «сущее». Такой вариант перевода был бы возможен при условии, что это «сущее» мы понимаем не «субстантивно», но «глагольно»: «Со времен Платона и Аристотеля и по сей день, — пишет Хайдеггер в 3-м параграфе своих "гераклитовских" лекций, — западноевропейское мышление не что иное, как "метафизика". Что касается мышления изначальных мыслителей, то оно, напротив еще не метафизика. Они, пожалуй, тоже мыслят бытие, но мыслят иначе. Они тоже знают сущее, но постигают его по-другому. Поэтому, произнося слова τὸ ὄν, τὰ ὄντα, "сущее", именно они как мыслители сразу мыслят эти "причастные" формы не субстантивно, но глагольно; τὸ ὄν, сущее (das Seiende) помыслено ими в смысле бытийствующего (im Sinne des Seiend), то есть в смысле бытия (das Sein). Для Парменида, например, τὸ ὄν, или, в соответствии с более древней словесной формой, τὸ ἐόν равнозначно τὸ είναι» (Heraklit, B. 55, S. 57—58). Наверное, das Seiende из этого отрывка — для пущего подтверждения его, das Seiende, «субстантивности» — можно было бы перевести нашим «существующим» (правда, без особого «прорыва» — хотя бы по причине отсутствия у него артикля, каковое отсутствие в переводе никакой «субстантивности» явно не прибавляет), а за Seiend постараться сохранить «сущее» (своевольно вообразив хотя бы на миг, что это «сущее», скажем Вл. Соловьева, а не Хайдеггера) с имеющейся в нем, на наш взгляд, той «глагольностью», которая, с точки зрения Хайдеггера, присутствовала в осмыслении τὸ ὄν ранними мыслителями, но поскольку чисто терминологический момент проводимого Хайдеггером онтологического «разнесения» уже жестко оформлен противопоставлением терминов «бытие» и «сущее», остается переводить «глагольное» Seiend словом «бытийствующий», обосновывая это тем, что, по крайней мере, для Парменида τὸ ὄν равнозначно τὸ είναι.
Читая толковый словарь Герхарда Варига, лишний раз убеждаешься, как «выигрывают» немцы, разъясняя самим себе свои же слова, например, ту же Anwesenheit. Она толкуется через синонимичные ей Zugegensein, Dasein, Dabeisein, о которых можно сказать, что они — тоже «присутствие», с той, однако, разницей, что в них, так сказать, «в чистом виде» сохраняется «sein», которое счастливым образом не усложняет проблему. Древневерхненемецкое «anawesan» Вариг объясняет как «darin und da sein» (т. е., по существу, говорит о Da-sein).
В переводе упомянутых wesen-конструкций мы отдаем предпочтение тем вариантам, в которых слышится «бытие». Совершая именно себя самое и отвечая своей собственной истине как истине «бытия», бытие, вероятно, все-таки «бытийствует», а сущему, со своей стороны, остается «существовать» («сутствовать», «сущиться» и т. д.). В сугубо понятийной взаимосвязанности того и другого находит свое обоснование их лексико-терминологическая определенность и обособленность. В предложении, содержащем такую жесткую связь и в то же время противопоставление (т. е. когда, говоря языком С. Франка, речь заходит о «бытийственно укорененном бытии»), В. Бибихин, например, останавливается на таком варианте: «Бытие никогда не бытийствует без сущего и сущее никогда не существует без бытия» (из «Послесловия» к лекции «Что такое метафизика?»).
Тем не менее некоторые уже устоявшиеся термины мы оставляем без изменения. Наверное, язык не позволяет сохранять полное терминологическое единообразие, отвечающее тому или иному глубинному инварианту. Вряд ли, в тщетной попытке сохранить «бытийное» звучание в слове Abwesen, его надо переводить как «небытность» или «кромебытие», хотя у того же В. Даля они даются как синонимы «отсутствию». В конце концов, смысл многих устоявшихся терминов концептуально достаточно ясен и к тому же, как мы надеемся, в каждом случае он подкрепляется контекстом и общей смысловой тональностью того или иного раздела лекций. Контекстуальное чередование смыслов под одной лексической «крышей» порой неизбежно: тот же А. Михайлов в «Истоке художественного творения» (см. раздел «Творение и истина») словосочетание Wesensbestimmung переводит как «сущностное определение», Wesenszüge как «сущностные черты», а несколькими страницами раньше словосочетание Wesensraum переводится им — в большем соответствии с его общими переводческими предпочтениями и сообразно контексту — как «бытийное пространство»; с другой стороны, В. Бибихин в своем переводе «Времени картины мира» фразу «Wesen der Wahrheit» переводит как «существо истины», но словосочетание Wesensmöglichkeit (например, во втором параграфе «Бытия и времени», в «Европейском нигилизме» и пр.) предпочитает переводить, так сказать, в «михайловском» стиле — «бытийная возможность» (а не «существенная» и не «сущностная», т. е. Wesensmöglichkeit = Seinsmöglichkeit). (Последний, кстати, это же словосочетание — «Wesen der Wahrheit» — в своем переводе «Времени картины мира» переводит именно как «бытийная сущность истины»).
Приведем несколько отрывков, в которых встречаются хайдеггеровские wesen-образования, и укажем на наш вариант перевода.
«In der πόλις als der Wesensstätte des geschichtlichen Menschen, die das Seiende im Ganzen entbirgt und verbirgt, umwest den Menschen alles das, was ihm, nach dem strengen Sinn des Wortes, zu-gefügt, aber damit auch entzogen ist. «Zu-gefügt» verstehen wir hier nicht in dem äußerlichen Sinne von «hinzu-gefügt» und «angetan», sondern in der Bedeutung von: zugewiesen als das, was dem Menschenwesen zuwest, so daß es in dieses ihm Zu-wesende eingelassen und eingefügt ist...». Здесь встречаются сразу два неологизма: umwesen и zuwesen (и к тому же причастное Zu-wesende), но прежде надо сказать, о какой πόλις тут идет речь. Для Хайдеггера исконная πόλις — это не некое политическое образование, которое как таковое совершенно вторично. Πόλις — это бытийное средоточие исторического человека, есть то самое «где», которому человек принадлежит как ζῴον λόγον ἔχον, то единственное место, откуда к нему при-лаживается бытийный лад (строй), в который он встроен и с которым улажен. Поскольку πόλις есть то самое «где», в котором этот лад раскрывается и скрывается, поскольку πόλις есть тот способ, каким раскрытие и сокрытие лада имеет место, причем так, что в этом своеобразном место-имении исторический человек одновременно приходит к своему существу и не-существу, πόλις (в котором бытие человека собралось, сосредоточилось в его отнесенности к сущему в целом) предстает как бытийное средоточие исторического человека. Всякое πολιτικόν, все «политическое» — это всегда и прежде всего сущностное следствие, вытекающее из πόλις, то есть из πολιτεία. Существо того, что обозначается словом πόλις, а именно πολιτεία, сама не определяется «политически» или, по крайней мере, не сводится только к «политическому». Хайдеггер говорит, что в πόλις так же мало «политического», как в самом пространстве — чего-то пространственного. Сама πόλις — это только вместилище того, что обозначается словом πέλειν, только способ, которым бытие сущего в своем раскрытии и сокрытии определяет для себя то «где», в коем остается собранной история человечества. Хайдеггер дерзновенно заявляет, что поскольку греки по своей сути являются совершенно неполитическим народом, поскольку их природа изначально определяется только в перспективе самого бытия, то есть в перспективе ἀλήθεια, только они и могли и только они и должны были прийти к основанию πόλις, основанию таких мест, в которых имеет-место собирание и сохранение ἀλήθεια как бытийной непотаенности. Столь явная онтологизация греческой πόλις заставляет сохранять в переводе упомянутых umwesen и zuwesen именно «бытие», и в результате umwesen, точнее umwest, мы несколько перифрастически переводим как «объемлет, или окружает своим бытием» (т.е.: «В πόλις как бытийном средоточии исторического человека, которое раскрывает сущее в целом и скрывает его, этого человека своим бытием объемлет все то... и т. д.), a zuwesen (zuwest) как «бытийно сродное», «бытийно неотъемлемое» и т. д.
Еще одно место. «Im Griechentum sind weder die ἀλήθεια, noch die λήθη je eigens auf ihr eigenes Wesen und auf ihren Wesensgrund durchdacht, weil sie nämlich allem Denken und Dichten vorauf als das «Wesen» das Zu-denkende schon durchwesen».
Кроме того, Хайдеггер говорит об «alles durchwesenden Walten der Verbergung und Entbergung». На наш взгляд, имеющееся здесь durchwesen тоже не поддается переводу одним словом («пробытийствование» в смысле некоего «прободения»), и потому здесь и в других местах приходится прибегать к «описательным» построениям: «пронизывает своим бытием», «бытийственно проникает» и т. д.
«Es ist das, was sich in das Geheure dargibt und in es hereinwest». Здесь мы имеем дело с глагольным неологизмом hereinwesen, причем налицо аккузатив, создающий непривычную для wesen переходность: речь идет о «бытийствовании во что-то», об устремленности в Geheure, т. е. в данном случае указывается направление, и потому при переводе приходится говорить о чем-то наподобие «бытийного вхождения», «бытийного врастания» (тем более что речь идет о «врастании» бытия в высветляемое им сущее, т. е. о некоем бытийном прибытии, если это слово допустить в качестве некоего «рабочего» варианта). Смысл такого «прибытия» в какой-то мере проглядывает в устаревшем глаголе «прибытить» в значении «заставить привыкнуть к новому месту» (Вл. Даль), в нашем случае — «прибытить» сущее к бытию, что и совершается в hereinwesen.
Такую же интересную особенность показывает и другой отрывок, на сей раз из лекций о Гераклите. В разделе «Начало западного мышления» Хайдеггер, говоря о богах в их «греческом» понимании, пишет: «Боги (θεοί) в данном случае суть θεάοντες καὶ δαίμονες. Сущность богов, являющихся грекам, как раз и выражается в этом появлении в смысле взирания (Hereinblicken) в привычное, причем происходит это так, что это взирающее в привычное и тем самым выглядывающее из него есть непривычное, которое преподносит себя в кругу привычного». И следующая строка: «Auch hier, sagt Heraklit, im Backofen, wo ich mich wärme, waltet die Anwesung des Ungeheueren in das Geheuere». T. е. речь идет о том, что греческие боги, являя собой das Ungeheure (термин, которого мы еще коснемся, потому что в обоих курсах лекций, «парменидовских» и «гераклитовских», он весьма существен) как бы постоянно «вживаются» в привычное для смертных окружение, потому что уже «живут» в нем (в отличие, как полагает Хайдеггер, от «инородных» вторжений Бога христианской традиции). Здесь мы опять имеем дело с аккузативной конструкцией («...waltet die Anwesung... in das Geheuere»), в которой перевод слова Anwesung «присутствием», «присутствованием» не годится не только потому, что эти варианты уже «закреплены» за Anwesenheit и Anwesen (хотя отметим еще раз, что, на наш взгляд, в них, этих вариантах, до досадного мало слышится «бытия», самого устаревшего немецкого «wesen»), но и потому, что любое, пусть даже некое инвариантное, «присутствие» здесь выглядит статично, не выражая той динамики, которая задается аккузативом. И здесь, у печи, говорит Гераклит, у которой я греюсь, правит прибывание непривычного в привычное в смысле непрестанного проступания бытия богов — или собственно бытия в его отличии от сущего — через толщу этого сущего, ошибочно кажущегося привычным всем тем, кто полагает, будто по-настоящему божественное (= бытийное) прячется в недоступных далях традиционно трансцендентного.
Говоря о хайдеггеровских wesen-конструкциях, нельзя не упомянуть и о вполне словарном, не хайдеггеровском глаголе verwesen («разлагаться», «гнить», verwest — истлелый), который словно проситься в плеяду упомянутых неологизмов, потому что в нем явно слышится распадение бытия (wesen). Ведь это «разлагаться» — не что иное (правда, эта параллель, к сожалению, возможна только в совершенном виде), как «разбытиться» (в противоположность к тоже упоминаемому Далем «разбытеть»», т. е., напротив, сильно наполниться собою, своим «бытием».
Несколько слов о ключевом термине Entbergung, который определяет если не всего позднего Хайдеггера, то, по крайней мере, его лекции о Пармениде и Гераклите. В «парменидовских» лекциях Хайдеггер называет его «специально придуманным» и надеется, что он «в большей степени отражает существо греческой ἀλήθεια, чем термин "несокрытость"». Чтобы показать, какой смысл он вкладывает в Entbergung и почему на этот неологизм у него надежд больше, чем на «модную», как он говорит, Unverborgenheit, мы позволим себе привести один относительно пространный отрывок из лекций о Гераклите, в котором Хайдеггер на примере метафизики Гегеля говорит о превратном понимании греческого мыслителя (см. GA 55, S. 31—32):
«Дело в том, что сама предпосылка гегелевской метафизики, а именно мысль о том, что универсум не может устоять перед мужеством познавания и должен раскрыться перед волей к безусловно надежному познанию, то есть перед волей к абсолютной достоверности, — мысль совершенно негреческая. Универсум, или по-гречески «космос», напротив, по своей бытийной природе есть нечто себя-скрывающее и потому сущностно "темное". Отношение изначального мышления к тому, что оно мыслит, изначально им и определяется. Если мышление мыслит то, что себя скрывает, то, что предстает как себя-скрывающее, тогда такое существенное мышление в своем познании никогда не может быть "волей", принуждающей универсум раскрыться. Поскольку мыслимое в своей сущности есть себя-скрывающее и в этом смысле "темное", как раз по этой и только по этой причине глубинное, существенное мышление, не перестающее сообразовываться с именно таким образом постигаемым "темным", само с необходимостью является таким же, то есть темным. Но при сохранении такого смыслового ракурса теперь "темнота" означает не что иное, как сущностно необходимый способ самосокрытия. Да, мыслитель Гераклит темен, но он темен потому, что его мышление сохраняет за мыслимым его собственную сущность. Гераклит не потому "Темный", что намеренно выражается неясно, и не потому, что для обычного разумения с его горизонтом видения любая "философия" темна, то есть непонятна: Гераклит "темен" потому, что он мыслит бытие как себя-скрывающее и говорит сообразно помысленному. Слово изначального мышления хранит "темное". Одно дело — хранить темное, и совсем другое — лишь натыкаться на него как на некую границу».
Все сказанное и вбирает в себя термин Entbergung. Поначалу кажется, что речь идет об обычном раскрытии, но раскрытие как Entbergung подразумевает не только упразднение и устранение сокрытия. Такое раскрытие действительно воспринимается как противостояние сокрытию, но оно не приводит к одному только раскрытому как несокрытому. Напротив, рас-крытие одновременно выступает как рас-крытие. Совершаясь как раскрытие, оно в то же время скрывает, и тут нельзя не вспомнить столь любимый Хайдеггером 93-й фрагмент Гераклита, который в его переводе звучит примерно так: «Оракул ни прямо открывает, ни попросту скрывает, но он открывает, скрывая, и скрывает, открывая».
Entbergung мы переводим как рас-скрытие, стремясь подчеркнуть идею раскрывающего скрывания.
Еще один существенный термин в философии (или, скорее, герменевтике) позднего Хайдеггера — das Ungeheure. Слово вполне обычное, словарное: das Ungeheuer — «чудовище» и вообще нечто «ужасное», «небывалое», «чудовищное», «огромное». Антоним geheuer употребляется, в основном, предикативно, например, das kommt mir nicht geheuer vor («мне кажется, что что-то не так» (не ладно, не чисто); mir ist nicht geheuer zumute («мне что-то не по себе»)). Мы уже говорили о том, что после «поворота» философствование Хайдеггера все больше напоминает герменевтику с характерной для нее разработкой новой терминологии, в которой нередко слышатся причудливые отголоски старых понятий. В обоих курсах лекций das Ungeheure — это нечто такое, в чем, несмотря на столь мрачный смысл этого термина, уже нет того «ужаса» (Angst), которым открывалось «прежнее», по своей смысловой тональности куда более трансцендентное бытие (бытие эпохи «Sein und Zeit»). Для грека, согласно Хайдеггеру, бытие во всей его полноте и непрестанной напряженности не трансцендентно, оно здесь, у печи, рядом с которой расположился Гераклит и которая, казалось бы, в силу своей совершенной известности совсем «погрязла» в сущем. Вместе с Гераклитом, рядом с ним, так сказать, греются и боги, но видеть их может только «бытийный» мыслитель, каков и есть Гераклит. Его опыт бытия — это, пожалуй, некое невозмутимое «не по себе», рождающееся из непрестанного соседства с «богами» как Взирающими (die Hereinblickende) в сущее из самого же сущего: если это и ужас, то он ему «не страшен» — не страшен потому, что древний эллин не умеет страшиться так, как это делает новоевропейский человек, утративший «бытийное» зрение.
Geheuer восходит к средневерхненемецкому gehiure («уютный»), в первоначальном смысле — «принадлежащий к тому же поселению» (der gleichen Siedlung angehörig); далее — к индогерманскому *kei- («лежать»); родственно слову Heim («домашний очаг»). Привативная «un-» (Ungeheuer) отрицает этот смысл, но то, что в результате этого появляется (уже упомянутые «ужасное», «небывалое», «чудовищное», «огромное»), с точки зрения Хайдеггера тоже не годится или годится, только будучи каким-то невозможным образом лишенным всего своего гротеска. Одним словом, das Ungeheure — это когда nicht geheuer zumute, когда «не по себе», когда тебе непривычно во всем твоем куда как привычном, в твоем Heim, вокруг уютного домашнего очага, где непривычное соседствует с привычным так, что порой они сами путают друг друга. Отсеяв «рабочие» варианты перевода этого термина («чуже-здешнее, чуже-близкое — по аналогии с «чужедальним»), мы переводим das Ungeheure просто как «непривычное» (или, точнее, не-привычное, поскольку и Хайдеггер часто пишет именно Un-geheure).
Вот характерный отрывок, хорошо показывающий природу das Ungeheure: «Таким образом, эти "многие" видят бытие и тем не менее не видят его. Имея бытие в виду, но не усматривая его, а только занимаясь каким-либо сущим, просчитывая и обустраивая его, они хорошо ориентируются в любом сущем и находятся в нем "как дома", как "в родных стенах". В пределах сущего, в границах действительного, в пределах пресловутых "фактов" все остается привычным (das Geheure). Если же человек усматривает бытие, то в сфере этого усмотрения перед ним открывается "не-обычное", чрезмерное, вырывающееся за пределы привычного и не поддающееся объяснению с помощью понятий, взятых из сущего: перед ним открывается не-привычное (das Un-Geheure), которое надо понимать в буквальном, а не в расхожем смысле чего-то огромного и еще-никогда-здесь-не-бывавшего (Noch-nie-Dagewesene), небывалого. Ведь правильно понятое не-привычное — это не огромное и не крохотное, потому что здесь вообще речь не идет о каком-то "размере". Равным образом, не-привычное не является еще-никогда-здесь-не-бывавшим, но представляет собой всегда бытийствующее прежде всяких "огромностей" и "чудовищностей". Являясь бытием, бросающим свой свет во все привычное, то есть сущее, бытием, которое в своем сиянии нередко лишь касается сущего, как беззвучно скользящая тень облака, не-привычное не имеет в себе ничего ужасного и громоподобного. Не-привычное — это простое, незаметное, ускользающее от стремящихся схватить его "клешней" воли, не поддающееся никакому искусству расчета, потому что оно всегда успевает опередить всякие планы и начинания... Это удивительное... есть не-привычное, то, что столь непосредственно принадлежит привычному, что его никогда нельзя объяснить из этого последнего».
Выбирая этот термин, das Ungeheure, в обычном его значении столь сильно нагруженный всяческой монструозностью, и стремясь «усмирить» его своим собственным прочтением, Хайдеггер словно бросает вызов ницшевскому пониманию эллинства с якобы характерным для него «дионисийством»: «Для греков божественное утверждается непосредственно в непривычном привычного (im Ungeheuren des Geheuren). Оно проявляется в этом отличии одного от другого. При этом мы нигде не видим распахивания какого-нибудь необыкновенного сущего, через которое якобы только и должно пробудиться божественное и родиться чувство его восприятия. Поэтому и вопрос о так называемом «дионисийском начале» должен раскрываться только как греческий вопрос. У нас есть много причин сомневаться в правильности ницшевского истолкования этого начала, и вполне можно предположить, что здесь мы имеем дело с грубым навязыванием эллинскому миру того некритического "биологизма", который был характерен для XIX в.». И далее: «В эллинстве всюду прежде всего царствует простая ясность бытия, позволяющая сущему восходить в сияние и погружаться во тьму».
И напоследок несколько слов о термине Entschloßenheit, обычно переводимом как «решимость» и «решительность». Как известно, у Хайдеггера «решимость» имеет два аспекта: собственно волевой акт решимости как открытость «зову совести» и решимость в ее онтологическом смысле как открытость Dasein бытию, как «отличительный модус разомкнутости Dasein». Думается, что во втором случае Entschloßenheit можно переводить и как раз-решимость и раз-решительность, поскольку исконное значение глагола «решить» — это «вязать», «связывать», и, следовательно, «разрешать» — это и есть «развязывать», «размыкать» (ср.: «разрешать зрение, слух»; «разрешать язык», т. е. давать речь; «разрешите вязи его!» и т. д.).
Это оправдано и потому, что сам Хайдеггер часто употребляет дефис (Ent-schloßenheit), каковой в обычном переводе утрачивается, создавая впечатление субъективной, не онтологической «решимости». Ведь субъективная «решимость» и мужество пойти навстречу «бытию» возможны только тогда, когда Dasein уже в онтологическом плане разомкнуто, раз-вязано, «раз-решено» к этому «бытию», «расторгнуто» навстречу ему в смысле той онтологической расторгнутости, которая слышится в самом слове trhlina — «трещина», «брешь» — брешь, образующая «просвет» (Lichtung).
В «парменидовских» лекциях эту разомкнутость, решительную раз-решенность и решимость вбирает в себя по-хайдеггеровски осмысленная ἀρετή: «На основании этого, сообразованного с бытием, восхода и размыкания человеческой сущности в ἀρετή человек находится в "расторгнутом", разомкнутом, раскрывающе-раскрытом отношении к сущему. Находясь в такой ἀρετή, в такой рас-торгнутости, человек в буквальном смысле "разрешен" к бытию сущего, то есть не от-решен от него. По-гречески понимаемая ἀρετά, рас-торгнутость как определенная из ἀλήθεια и αἰδώς раз-решительность, раскрытость человеческого существа в корне отличается от "решительности", осмысленной на новоевропейский лад и утвержденной на человеке как субъекте: сущность последней коренится в волевом акте человека, сознательно и намеренно утверждающемся на самом себе и только на себе... В противоположность этому решительность как раз-решимость, как рас-торгнутость, по-гречески понятая как размыкание, раскрывающееся бытию, имеет другое сущностное происхождение...».
Мы рассмотрели некоторые термины фрайбургских лекций о Пармениде, и критерий их отбора в чем-то определялся решением переводчика. Можно было бы, наверное, обратиться и к чему-то другому, но, в конце концов, лучше просто предоставить читателю сам хайдеггеровский текст, который, как мы надеемся, нам все-таки удалось передать по-русски.
[i] См. ниже, с. 274 и след.
[ii] См. ниже, с. 245—250.
[iii] «Бытие и время» — это первая попытка исходя из основополагающего опыта, согласно которому само бытие остается в забвении, помыслить само бытие, т.е. сначала подготовить это мышление, проложить ему путь, даже рискуя, что он останется «лесной тропой».
[iv] О слове «ложный», falsum см. ниже, с. 72-81.
[v] Katzengold — кошачье золото: разложившаяся темная слюда с золотистым блеском; Katzensilber — кошачье серебро: разложившаяся слюда белого цвета. — Примеч. перев.
[vi] О значении слов ὀρφός и ὀρφότης см. ниже, с. 169—174.
[vii] Sancti Thomae Aquinatis Opera Omnia, VI, Commentum in Quatuor Libros Sententiarium, Volumen Primum, Distinct. II, Quaest. I, Art. V, Expositio textus: Justitia hiс sumitur pro justitia generali, quae est rectitudo animae in comparatione ad Deum et ad proximum et unius potentiae ad aliam; et dicitur justitia fidei, quia in justificatione primus motus est fidei...
[viii] Nietzsche, WW, Großoktav, XIII, n. 462, S. 205.
[ix] Ibid., XIV, n. 158, S. 80.
[x] Hölderlin, WW (Hellingrath), IV, S. 129. Уже один только генитив в заголовке этого стихотворения загадочно многозначен.
[xi] Немецкое «lesen» употребляется в значении «читать» и «собирать». — Примеч. перев.
[xii] Hegel, WW (Verein von Freunden), Bd 3, S. 4.
[xiii] Ср. Grundbegriffe, Freiburger Vorlesung Sommersemester 1941. Gesamtausgabe. Bd 51, Frankfurt am Main, 1981.
[xiv] Имеется в виду перекличка слов βίος (жизнь) и βίος (лук). — Примеч. перев.
[xv] Nietzsche, op. cit, XIV, W.z.M., n. 852.
[xvi] Ср. Sein und Zeit, § 64.
[xvii] Hölderlin W. W. (Hellingrath), IV, S. 47.
[xviii] См. о Логосе Гераклита: Gesamtausgabe Bd 55, S. 185-402; см. также послесловие издателя, II, S. 405).
[xix] Рильке говорит о «малой» твари, каковой является комар, а также о «большой» — летучей мыши. В письме к Лу Саломе он говорит о «звере» и «ангеле» (Rainer Maria Rilke, Briefe aus den Jahren 1907 bis 1914. Hrsg. Von Ruth Sieber-Rilke und Carl Sieber, Leipzig 1933. Brief an Lou Andreas Salomé aus Duino am 1. März 1912, S. 211 ff., insbesondere S. 212). Для Рильке человеческое «сознание», разум, «логос» — это как раз та преграда, которая делает человека менее могущим по сравнению с животным. Быть может, тогда нам надо стать «животными»? См. письмо от 11 августа, в котором говорится о «противовесе». Ср. именования птиц, ребенка, возлюбленной. (Rainer Maria Rilke, Briefe aus Muzot. Hrsg. Von Ruth Sieber-Rilke und Carl Sieber. Leipzig 1935. Brief aus Muzot an Nora Purtscher-Wydenbruck vom 11. August 1924. S. 277 ff.).